психологическая консультация
когнитивной-поведенческая психотерапия
психологическая консультация
перевод статьи
Возвращая "психическое" обратно в "психические расстройства": перспектива
исследования страха и тревожности
Винсент Ташеро-Дюмушель, Маттиас Мишель, Хакван Лау, Стефан Г. Хофманн и Джозеф Э. Леду © Автор(ы) 2021
Проблемы с психическим здоровьем часто включают в себя группы симптомов, которые включают субъективные (сознательные) переживания, а также поведенческие и/или физиологические реакции. Поскольку реакции организма легко поддаются объективному измерению, на них стали обращать особое внимание при разработке методов лечения и оценке их эффективности.
С другой стороны, субъективный опыт пациента, о котором сообщается во время клинического интервью, часто рассматривается как слабый коррелят психопатологии. В той мере, в какой субъективные симптомы связаны с основной проблемой, часто предполагается, что о них позаботятся, если должным образом лечить более объективные поведенческие и физиологические симптомы.
Однако десятилетия исследований тревожных расстройств показывают, что поведенческие и физиологические симптомы не так сильно коррелируют с субъективными переживаниями, как обычно предполагается. Кроме того, методы лечения, разработанные с использованием более объективных симптомов в качестве маркера психопатологии, в основном разочаровывали своей эффективностью. Учитывая, что "психические" расстройства названы по их субъективным психическим качествам и определяются ими, возможно, неудивительно, оглядываясь назад, что методы лечения, которые отодвигали на второй план психические качества, не были особенно эффективными.
Это негативное отношение к субъективному опыту пустило корни в психиатрии и смежных областях несколько десятилетий назад, когда было мало возможностей для научного изучения субъективного опыта. Однако сегодня исследования сознания в области когнитивной неврологии процветают и предлагают жизнеспособный и новый научный подход, который мог бы помочь достичь более глубокого понимания психических расстройств и их лечения.
Молекулярная психиатрия (2022) 27:1322-1330; https://doi.org/10.1038/s41380-021-01395-5
С другой стороны, субъективный опыт пациента, о котором сообщается во время клинического интервью, часто рассматривается как слабый коррелят психопатологии. В той мере, в какой субъективные симптомы связаны с основной проблемой, часто предполагается, что о них позаботятся, если должным образом лечить более объективные поведенческие и физиологические симптомы.
Однако десятилетия исследований тревожных расстройств показывают, что поведенческие и физиологические симптомы не так сильно коррелируют с субъективными переживаниями, как обычно предполагается. Кроме того, методы лечения, разработанные с использованием более объективных симптомов в качестве маркера психопатологии, в основном разочаровывали своей эффективностью. Учитывая, что "психические" расстройства названы по их субъективным психическим качествам и определяются ими, возможно, неудивительно, оглядываясь назад, что методы лечения, которые отодвигали на второй план психические качества, не были особенно эффективными.
Это негативное отношение к субъективному опыту пустило корни в психиатрии и смежных областях несколько десятилетий назад, когда было мало возможностей для научного изучения субъективного опыта. Однако сегодня исследования сознания в области когнитивной неврологии процветают и предлагают жизнеспособный и новый научный подход, который мог бы помочь достичь более глубокого понимания психических расстройств и их лечения.
Молекулярная психиатрия (2022) 27:1322-1330; https://doi.org/10.1038/s41380-021-01395-5
Вступление
Проблемы, связанные со страхом и тревогой, являются одними из наиболее распространенных форм психических заболеваний [1] и были предметом многочисленных исследований на животных [2-8] и людях [9, 10]. Успех этого доклинического исследования существенно повлиял на современные клинические вмешательства [11-19]. Тем не менее, методы лечения остаются менее удовлетворительными, чем хотелось бы пациентам и терапевтам [20-24]. Здесь мы предполагаем, что один фактор, больше, чем все остальные, способствовал такому положению дел: систематическая маргинализация субъективного опыта пациентов в качестве темы исследования и цели лечения.
Современные теории эмоций зародились в конце девятнадцатого века Чарльзом Дарвином [25] и Уильямом Джеймсом [26]. Оба подчеркивали субъективный опыт, но по-разному. Для Дарвина психическое состояние эмоций вызывало поведенческие и физиологические реакции в организме, в то время как для Джеймса реакции тела определяли психическое состояние. Современные теории человеческих эмоций, включая страх и тревогу, по-прежнему подчеркивают связь между субъективным опытом, явным поведением и физиологическими изменениями [26, 27]. Но субъективный компонент, обычно оцениваемый с помощью устного отчета, рассматривался как не более важный, чем другие, и, фактически, часто был наименее оценен учеными. Это предубеждение уходит своими корнями в начало двадцатого века, когда бихевиористы из-за произвольного приписывания психических состояний причинам поведения человека и животных [28, 29] избегали субъективного опыта как научной конструкции [30]. Эта тенденция продолжилась в середине века, когда психологи-физиологи, в основном бихевиористы, начали изучать мозговые механизмы открытого поведения у животных, используя методы бихевиоризма и принимая его презрение ко всему ментальному [31-34]. Хотя когнитивная наука зарождалась как новый подход к разуму примерно в это время, она рассматривала разум как систему, обрабатывающую информацию, а не как систему, генерирующую субъективный опыт [35].
На протяжении большей части первой половины двадцатого века субъективный разум, тем не менее, был жив и здоров в психиатрии, в которой доминировал психоаналитический подход, инициированный Зигмундом Фрейдом. Но клинические психологи в 1950-х и 60-х годах начали разрабатывать новые методы лечения, основанные на поведенческих принципах [36, 37]. И биологически ориентированные психиатры искали лекарственные методы лечения, часто с помощью вдохновленных бихевиоризмом исследований на животных [38-40]. Сторонники этих подходов были мотивированы, отчасти, желанием дистанцироваться от наследия Фрейда. В то время как у них были причины желать начать все сначала, а не просто дистанцироваться от взгляда Фрейда на психику они отвергли центральную роль субъективных психических состояний в психических заболеваниях.
В это же время когнитивный подход к терапии также зарождался в руках Альберта Эллиса [41] и Аарона Бека [42], оба из которых изначально проходили подготовку психоаналитиков. Их изюминка заключалась в том, чтобы сместить фокус субъективного дистресса с неразрешенного бессознательного конфликта на неадаптивные убеждения и автоматические мысли. Однако в последующие годы популярность медицинской модели психиатрии стала стандартом оценки терапевтических результатов, и даже когнитивные подходы начали рассматривать субъективный опыт просто как еще один фактор, способствующий "болезни". В результате тенденция к маргинализации субъективного опыта является скорее нормой, чем исключением в этой области, несмотря на то, что субъективные ощущения пациента являются основным фактором, который побуждает их обращаться за помощью, а также формирует их оценку того, было ли лечение эффективным.
Клиницисты, конечно, всегда хотели, чтобы их пациенты чувствовали себя лучше в результате проводимой ими терапии. Но из-за несоответствий, которые они наблюдали в самоотчете пациентов во время клинических интервью, самоотчет приобрел плохую репутацию. Как мы увидим, это было подтверждено исследованиями, которые поставили под сомнение надежность самоотчета. Но при выплескивании ребенка вместе с водой из ванны были проигнорированы важные, эмпирически полезные аспекты самоотчета. По мере того как терапия становилась все более основанной на фактических данных, а страховщики требовали объективных целей лечения для оценки успеха лечения, научная ценность самоотчетов еще больше отошла на второй план (что нашло отражение в инициативе NIMH RDoc [43, 44]).
В этой статье мы предполагаем, что маргинализация субъективного опыта в современной психологии, неврологии и психиатрии сделала неизбежным то, что разработанные и внедряемые методы лечения будут менее эффективными, чем хотелось бы. В частности, мы предполагаем, что методы лечения, направленные на легко поддающиеся измерению поведенческие и физиологические проявления, хотя и полезны для лечения поведенческих и физиологических симптомов, являются проблематичными как подход к улучшению субъективного благополучия.
Мы будем использовать страх, чтобы доказать свою правоту, и будем утверждать, что, вопреки давним и текущим тенденциям, субъективный страх - это не просто еще один фактор эмоционального страха; это то, чем является эмоциональный страх [3, 22, 45]. Мы считаем, что принятие этой точки зрения позволило бы глубже понять связь адаптивного с патологическим страхом и тревогой и проложило бы путь к новым, более эффективным подходам для лечения распространенных и вызывающих беспокойство состояний, связанных с этими психическими состояниями.
Прежде чем изложить наши аргументы, важно отметить, что страх и тревога, хотя и связаны, являются разными состояниями (см. [3]). Тем не менее, поскольку эти термины часто взаимозаменяемы в исторической литературе, мы используем их взаимозаменяемо, когда ссылаемся на исторические моменты.
Современные теории эмоций зародились в конце девятнадцатого века Чарльзом Дарвином [25] и Уильямом Джеймсом [26]. Оба подчеркивали субъективный опыт, но по-разному. Для Дарвина психическое состояние эмоций вызывало поведенческие и физиологические реакции в организме, в то время как для Джеймса реакции тела определяли психическое состояние. Современные теории человеческих эмоций, включая страх и тревогу, по-прежнему подчеркивают связь между субъективным опытом, явным поведением и физиологическими изменениями [26, 27]. Но субъективный компонент, обычно оцениваемый с помощью устного отчета, рассматривался как не более важный, чем другие, и, фактически, часто был наименее оценен учеными. Это предубеждение уходит своими корнями в начало двадцатого века, когда бихевиористы из-за произвольного приписывания психических состояний причинам поведения человека и животных [28, 29] избегали субъективного опыта как научной конструкции [30]. Эта тенденция продолжилась в середине века, когда психологи-физиологи, в основном бихевиористы, начали изучать мозговые механизмы открытого поведения у животных, используя методы бихевиоризма и принимая его презрение ко всему ментальному [31-34]. Хотя когнитивная наука зарождалась как новый подход к разуму примерно в это время, она рассматривала разум как систему, обрабатывающую информацию, а не как систему, генерирующую субъективный опыт [35].
На протяжении большей части первой половины двадцатого века субъективный разум, тем не менее, был жив и здоров в психиатрии, в которой доминировал психоаналитический подход, инициированный Зигмундом Фрейдом. Но клинические психологи в 1950-х и 60-х годах начали разрабатывать новые методы лечения, основанные на поведенческих принципах [36, 37]. И биологически ориентированные психиатры искали лекарственные методы лечения, часто с помощью вдохновленных бихевиоризмом исследований на животных [38-40]. Сторонники этих подходов были мотивированы, отчасти, желанием дистанцироваться от наследия Фрейда. В то время как у них были причины желать начать все сначала, а не просто дистанцироваться от взгляда Фрейда на психику они отвергли центральную роль субъективных психических состояний в психических заболеваниях.
В это же время когнитивный подход к терапии также зарождался в руках Альберта Эллиса [41] и Аарона Бека [42], оба из которых изначально проходили подготовку психоаналитиков. Их изюминка заключалась в том, чтобы сместить фокус субъективного дистресса с неразрешенного бессознательного конфликта на неадаптивные убеждения и автоматические мысли. Однако в последующие годы популярность медицинской модели психиатрии стала стандартом оценки терапевтических результатов, и даже когнитивные подходы начали рассматривать субъективный опыт просто как еще один фактор, способствующий "болезни". В результате тенденция к маргинализации субъективного опыта является скорее нормой, чем исключением в этой области, несмотря на то, что субъективные ощущения пациента являются основным фактором, который побуждает их обращаться за помощью, а также формирует их оценку того, было ли лечение эффективным.
Клиницисты, конечно, всегда хотели, чтобы их пациенты чувствовали себя лучше в результате проводимой ими терапии. Но из-за несоответствий, которые они наблюдали в самоотчете пациентов во время клинических интервью, самоотчет приобрел плохую репутацию. Как мы увидим, это было подтверждено исследованиями, которые поставили под сомнение надежность самоотчета. Но при выплескивании ребенка вместе с водой из ванны были проигнорированы важные, эмпирически полезные аспекты самоотчета. По мере того как терапия становилась все более основанной на фактических данных, а страховщики требовали объективных целей лечения для оценки успеха лечения, научная ценность самоотчетов еще больше отошла на второй план (что нашло отражение в инициативе NIMH RDoc [43, 44]).
В этой статье мы предполагаем, что маргинализация субъективного опыта в современной психологии, неврологии и психиатрии сделала неизбежным то, что разработанные и внедряемые методы лечения будут менее эффективными, чем хотелось бы. В частности, мы предполагаем, что методы лечения, направленные на легко поддающиеся измерению поведенческие и физиологические проявления, хотя и полезны для лечения поведенческих и физиологических симптомов, являются проблематичными как подход к улучшению субъективного благополучия.
Мы будем использовать страх, чтобы доказать свою правоту, и будем утверждать, что, вопреки давним и текущим тенденциям, субъективный страх - это не просто еще один фактор эмоционального страха; это то, чем является эмоциональный страх [3, 22, 45]. Мы считаем, что принятие этой точки зрения позволило бы глубже понять связь адаптивного с патологическим страхом и тревогой и проложило бы путь к новым, более эффективным подходам для лечения распространенных и вызывающих беспокойство состояний, связанных с этими психическими состояниями.
Прежде чем изложить наши аргументы, важно отметить, что страх и тревога, хотя и связаны, являются разными состояниями (см. [3]). Тем не менее, поскольку эти термины часто взаимозаменяемы в исторической литературе, мы используем их взаимозаменяемо, когда ссылаемся на исторические моменты.
Модель болезни страха и тревожности
Ранние нозологические системы подчеркивали глубоко укоренившиеся психодинамические конфликты как скрытые причины дисфункции при множественных психических заболеваниях. Сегодня Американская психиатрическая ассоциация [46, с. 20] определяет психические расстройства, включая тревожные расстройства, как "синдром, характеризующийся клинически значимыми нарушениями в познании индивида, регуляции эмоций или поведении, которые отражают дисфункцию в психологических, биологических процессах или процессах развития, лежащих в основе психического функционирования".
Современные системы классификации, такие как Международная классификация болезней (МКБ-11) и Руководство по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-5), объясняют "дисфункцию", используя медицинскую модель заболевания, которая предполагает, что симптомы отражают скрытые сущности заболевания. С этой точки зрения тревожные расстройства являются следствием аномальных мозговых цепей, нейротрансмиттеров, генов и/или других биологических аномалий [43]. Предполагается, что фармакологические и/или психологические вмешательства могут быть эффективными методами лечения, поскольку они корректируют такие патофизиологические состояния.
Эта медицинская перспектива привела к появлению широко используемого подхода к оценке вовлеченности фармацевтических и других биологических мишеней с использованием поведенческих тестов на животных перед проведением клинических испытаний на людях. Предполагалось, что вмешательства, которые оказались эффективными и безопасными в доклинических исследованиях, затем могут быть протестированы на пациентах-людях. Поскольку животным не хватает способности давать словесные самоотчеты о своих внутренних чувствах, поведенческие и физиологические реакции могут быть использованы в качестве прокси для субъективного опыта.
Но вопреки предсказаниям медицинской модели, десятилетия исследований не привели к открытию новых эффективных фармакологических методов лечения [20, 21, 47-49]. В результате фармацевтическая промышленность прекращает или сокращает усилия по открытию психиатрических препаратов [23, 24, 50]. По словам Стивена Хаймана [51], бывшего директора Национального института психического здоровья, неудача фармацевтической промышленности в области психиатрических исследований ведет к глобальному кризису здравоохранения, поскольку психические заболевания являются ведущей причиной инвалидности в мире и приводят к огромному социальному бремени.
Почему эта попытка провалилась? Мы считаем, что она была, по сути, обречена с самого начала своей приверженностью упрощенному взгляду на человеческие страдания [52]. В частности, медицинская модель страха слишком сильно зависит от предположения, что все три аспекта страха (субъективный, поведенческий, физиологический) имеют общее происхождение — контур страха — в мозге. Например, DSM-5 описывает страх как включающий "всплески вегетативного возбуждения, необходимые для борьбы или бегства, мысли о непосредственной опасности и поведение, направленное на бегство" ([46], с. 189).
Эта точка зрения утверждает, что все три аспекта являются проявлениями одних и тех же базовых схем. Поскольку предполагается, что мы, люди, унаследовали наши "схемы страха" от наших предков-млекопитающих, вмешательства, которые эффективны для нормализации поведенческих и физиологических параметров у крыс и мышей, должны быть эффективными при лечении расстройств страха и тревожности. В той мере, в какой субъективные чувства также вызывают беспокойство, лечение контура страха должно быть направлено на них, поскольку страх, как и поведенческие и физиологические реакции, является продуктом контура страха. Как отмечалось выше, мы не разделяем эту точку зрения и предлагаем рассматривать субъективные и объективные ответы отдельно.
Современные системы классификации, такие как Международная классификация болезней (МКБ-11) и Руководство по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-5), объясняют "дисфункцию", используя медицинскую модель заболевания, которая предполагает, что симптомы отражают скрытые сущности заболевания. С этой точки зрения тревожные расстройства являются следствием аномальных мозговых цепей, нейротрансмиттеров, генов и/или других биологических аномалий [43]. Предполагается, что фармакологические и/или психологические вмешательства могут быть эффективными методами лечения, поскольку они корректируют такие патофизиологические состояния.
Эта медицинская перспектива привела к появлению широко используемого подхода к оценке вовлеченности фармацевтических и других биологических мишеней с использованием поведенческих тестов на животных перед проведением клинических испытаний на людях. Предполагалось, что вмешательства, которые оказались эффективными и безопасными в доклинических исследованиях, затем могут быть протестированы на пациентах-людях. Поскольку животным не хватает способности давать словесные самоотчеты о своих внутренних чувствах, поведенческие и физиологические реакции могут быть использованы в качестве прокси для субъективного опыта.
Но вопреки предсказаниям медицинской модели, десятилетия исследований не привели к открытию новых эффективных фармакологических методов лечения [20, 21, 47-49]. В результате фармацевтическая промышленность прекращает или сокращает усилия по открытию психиатрических препаратов [23, 24, 50]. По словам Стивена Хаймана [51], бывшего директора Национального института психического здоровья, неудача фармацевтической промышленности в области психиатрических исследований ведет к глобальному кризису здравоохранения, поскольку психические заболевания являются ведущей причиной инвалидности в мире и приводят к огромному социальному бремени.
Почему эта попытка провалилась? Мы считаем, что она была, по сути, обречена с самого начала своей приверженностью упрощенному взгляду на человеческие страдания [52]. В частности, медицинская модель страха слишком сильно зависит от предположения, что все три аспекта страха (субъективный, поведенческий, физиологический) имеют общее происхождение — контур страха — в мозге. Например, DSM-5 описывает страх как включающий "всплески вегетативного возбуждения, необходимые для борьбы или бегства, мысли о непосредственной опасности и поведение, направленное на бегство" ([46], с. 189).
Эта точка зрения утверждает, что все три аспекта являются проявлениями одних и тех же базовых схем. Поскольку предполагается, что мы, люди, унаследовали наши "схемы страха" от наших предков-млекопитающих, вмешательства, которые эффективны для нормализации поведенческих и физиологических параметров у крыс и мышей, должны быть эффективными при лечении расстройств страха и тревожности. В той мере, в какой субъективные чувства также вызывают беспокойство, лечение контура страха должно быть направлено на них, поскольку страх, как и поведенческие и физиологические реакции, является продуктом контура страха. Как отмечалось выше, мы не разделяем эту точку зрения и предлагаем рассматривать субъективные и объективные ответы отдельно.
Терминологическая путаница в изучении "страха"
Страху уделяется больше научного внимания, чем любой другой эмоции. Но было два противоречивых подхода. Первая началась с Дарвина, который определил такие эмоции, как страх, как "состояния ума", которые мы унаследовали от наших предков-млекопитающих в силу того, что унаследовали некоторые особенности их нервной системы [25]. Это хорошо сочеталось с акцентом на сознании как психологов животных, так и людей в конце девятнадцатого века [53]. Второй подход возник в начале двадцатого века, когда "бихевиористы" обвинили психологов в их безудержном и часто неоправданном использовании сознания в качестве объяснения поведения.
Бихевиористы доминировали в психологии в течение следующих нескольких десятилетий. Следовательно, подавляющее большинство исследователей психологии животных с 1920-х по 1960-е и даже в 1970-е годы были либо бихевиористами, либо обучались у бихевиористов. Несмотря на свое презрение к использованию субъективных состояний для объяснения поведения, бихевиористы, тем не менее, сохранили использование терминов субъективного состояния (например, страх, голод) для описания мотиваций, лежащих в основе поведения. Эти исследователи обычно не имели в виду, что субъективное состояние страха или голода было ответственно за избегание опасности или приближение к еде [54, 55]. Вместо этого было сказано, что эти термины относятся к гипотетическим промежуточным переменным, которые связывают стимулы с реакциями [56]. Например, страх был функциональной связью между опасным или угрожающим стимулом и защитной (оборонительной) реакцией.
Между тем биологи, изучающие поведение, больше работали в традициях Дарвина. Одна группа, этологи, выступала против отсутствия у бихевиористов интереса к видовым различиям в поведении, но склонялась на их сторону в отношении субъективного опыта [60]. Другая группа, физиологи, изучала мозговые механизмы эмоционального поведения. Хорошо известная работа Кэннона, Барда, Хесса, Клювера и Бьюси выявила роль гипоталамуса и височной доли в агрессивном и оборонительном поведении (см. [2]). Эти исследователи не были ограничены бихевиоризмом, и некоторые свободно относились к эмоциональному поведению, которое они изучали, как к индикаторам субъективных чувств ярости или страха.
В 1950-х годах некоторые бихевиористы стали физиологическими психологами. То есть их промежуточные переменные стали физиологическими состояниями в областях мозга. Этот шаг был вдохновлен работой физиологов, упомянутых выше. Но психологи-физиологи в основном оставались верны своему бихевиористскому наследию, рассматривая изучаемые ими физиологические факторы как несубъективные мотивационные состояния, по крайней мере на начальном этапе.
Ведущим поведенческим подходом к изучению "страха" в психологии животных с 1940-х по 1970-е годы была процедура избегания Маурера [61-64] (обзор [65, 66] см. в [67]). Маурер предположил, что крысы мотивированы избегать вызывающих отвращение стимулов (ударов электрическим током) "страхом". Поведение, которое привело к успешному бегству от вызывающего отвращение стимула, а затем и к его избеганию, было усилено уменьшением "страха". Важным открытием было то, что в начале тренировки частота сердечных сокращений повышается, но затем, как только реакция избегания хорошо установлена, частота нормализуется [65, 66, 68]. Это было истолковано как означающее, что "страх" приводит к увеличению частоты сердечных сокращений. Успешное избегание затем сопровождается уменьшением "страха", и за этим следует снижение частоты сердечных сокращений [69].
Бихевиористы, такие как Маурер, рассматривали страх как промежуточную переменную [57, 64]. Что это означало? Естественным предположением среди бихевиористов того времени было то, что страх - это несубъективное состояние, контролирующее поведение. Но по мере того, как бихевиоризм становился менее доминирующей силой в психологии, даже некоторые бихевиористы начали говорить о "страхе" так, как если бы они имели в виду субъективный страх, используя такие выражения, как "испуганные крысы" или "крысы, застывшие в страхе" [65, 70]. Часто в рамках одной статьи "страх", казалось, относился к несубъективному состоянию в некоторых предложениях, в то время как в других, казалось, подразумевалось, что животные были субъективно напуганы. Вероятно, это было связано как с идеологией, так и с тем, как трудно удержаться от возвращения к использованию повседневного просторечного термина для обозначения психического состояния, не относящегося к психическому состоянию.
Примерно через два десятилетия после начала исследований Маурер прояснил свою позицию, отметив, что крысы замирают и избегают "по причине" страха; другими словами, для него "страх" всегда означал сознательный страх [71]. Хотя это можно было прочесть между строк, которые он писал на протяжении многих лет, поле, похоже, было ослеплено тем, что он на самом деле говорил, их идеологией.
Работа Маурера не только повлияла на исследования поведения животных, но и стала тем способом, которым клиницисты воспринимали страх. С самого начала Маурер интересовался обучением избеганию у животных как инструментом для понимания патологической тревоги человека [63]. В то время психоаналитический подход Фрейда был доминирующим клиническим подходом, и Маурер предположил, что принципы поведенческого обучения могут улучшить клиническое лечение [72]. Впоследствии коллега Маурера, Нил Миллер, продолжил эти усилия, написав книгу под названием "Личность и психотерапия" совместно с психоаналитиком Джоном Доллардом [73]. Но к тому времени психоанализ шел на убыль, и эти усилия, вместо того чтобы расширить сферу психоаналитического лечения, проложили путь к появлению поведенческой терапии [36], а затем когнитивно-поведенческой терапии [41, 74]. Двухфакторная теория Маурера продолжает цитироваться в современном клиническом понимании тревоги [75-77].
Терминология страха стала еще более запутанной в 1970-х годах с возрождением дарвиновского подхода, принятого исследователями-психологами под видом теории базовых эмоций [78-81]. Страх, с этой точки зрения, был врожденной эмоцией, унаследованной от предков млекопитающих в форме нейронной "программы аффекта" или "операционной системы эмоций". Як Панксепп [80, 81], например, использовал доказательства вовлечения миндалины и периакведуктальных серых областей мозга в защитное поведение крыс в качестве основы для постулирования того, что гомологичные операционные системы эмоций лежат в основе не только поведенческих и физиологических реакций, но и субъективного переживания страха как у крыс, так и у людей.
Многие, работающие над схемами, лежащими в основе защитного поведения в традиции физиологической психологии, ориентированной на бихевиоризм, в то время не утруждали себя рассмотрением вопроса о том, что означает страх, поскольку сознательный страх не был началом, и они просто предполагали, что это было несубъективное физиологическое состояние миндалины. Тем не менее, обсуждая значение поведенческих исследований на животных для понимания страха и тревожности как клинических проблем, они часто говорили о страхе в разговорной форме.
Поскольку разговорный способ - это способ, которым большинство людей, включая непрофессионалов, журналистов и большинство ученых, не работающих в области страха, думают о страхе, публичный разговор о цепях страха был о сознательном страхе. В результате идея о миндалине как средоточии чувств страха в мозге стала культурным мемом, который также подразумевал, что лекарства или другие методы лечения, нацеленные на миндалину, могут сделать людей менее боязливыми и тревожными [18, 82, 83].
Бихевиористы доминировали в психологии в течение следующих нескольких десятилетий. Следовательно, подавляющее большинство исследователей психологии животных с 1920-х по 1960-е и даже в 1970-е годы были либо бихевиористами, либо обучались у бихевиористов. Несмотря на свое презрение к использованию субъективных состояний для объяснения поведения, бихевиористы, тем не менее, сохранили использование терминов субъективного состояния (например, страх, голод) для описания мотиваций, лежащих в основе поведения. Эти исследователи обычно не имели в виду, что субъективное состояние страха или голода было ответственно за избегание опасности или приближение к еде [54, 55]. Вместо этого было сказано, что эти термины относятся к гипотетическим промежуточным переменным, которые связывают стимулы с реакциями [56]. Например, страх был функциональной связью между опасным или угрожающим стимулом и защитной (оборонительной) реакцией.
Между тем биологи, изучающие поведение, больше работали в традициях Дарвина. Одна группа, этологи, выступала против отсутствия у бихевиористов интереса к видовым различиям в поведении, но склонялась на их сторону в отношении субъективного опыта [60]. Другая группа, физиологи, изучала мозговые механизмы эмоционального поведения. Хорошо известная работа Кэннона, Барда, Хесса, Клювера и Бьюси выявила роль гипоталамуса и височной доли в агрессивном и оборонительном поведении (см. [2]). Эти исследователи не были ограничены бихевиоризмом, и некоторые свободно относились к эмоциональному поведению, которое они изучали, как к индикаторам субъективных чувств ярости или страха.
В 1950-х годах некоторые бихевиористы стали физиологическими психологами. То есть их промежуточные переменные стали физиологическими состояниями в областях мозга. Этот шаг был вдохновлен работой физиологов, упомянутых выше. Но психологи-физиологи в основном оставались верны своему бихевиористскому наследию, рассматривая изучаемые ими физиологические факторы как несубъективные мотивационные состояния, по крайней мере на начальном этапе.
Ведущим поведенческим подходом к изучению "страха" в психологии животных с 1940-х по 1970-е годы была процедура избегания Маурера [61-64] (обзор [65, 66] см. в [67]). Маурер предположил, что крысы мотивированы избегать вызывающих отвращение стимулов (ударов электрическим током) "страхом". Поведение, которое привело к успешному бегству от вызывающего отвращение стимула, а затем и к его избеганию, было усилено уменьшением "страха". Важным открытием было то, что в начале тренировки частота сердечных сокращений повышается, но затем, как только реакция избегания хорошо установлена, частота нормализуется [65, 66, 68]. Это было истолковано как означающее, что "страх" приводит к увеличению частоты сердечных сокращений. Успешное избегание затем сопровождается уменьшением "страха", и за этим следует снижение частоты сердечных сокращений [69].
Бихевиористы, такие как Маурер, рассматривали страх как промежуточную переменную [57, 64]. Что это означало? Естественным предположением среди бихевиористов того времени было то, что страх - это несубъективное состояние, контролирующее поведение. Но по мере того, как бихевиоризм становился менее доминирующей силой в психологии, даже некоторые бихевиористы начали говорить о "страхе" так, как если бы они имели в виду субъективный страх, используя такие выражения, как "испуганные крысы" или "крысы, застывшие в страхе" [65, 70]. Часто в рамках одной статьи "страх", казалось, относился к несубъективному состоянию в некоторых предложениях, в то время как в других, казалось, подразумевалось, что животные были субъективно напуганы. Вероятно, это было связано как с идеологией, так и с тем, как трудно удержаться от возвращения к использованию повседневного просторечного термина для обозначения психического состояния, не относящегося к психическому состоянию.
Примерно через два десятилетия после начала исследований Маурер прояснил свою позицию, отметив, что крысы замирают и избегают "по причине" страха; другими словами, для него "страх" всегда означал сознательный страх [71]. Хотя это можно было прочесть между строк, которые он писал на протяжении многих лет, поле, похоже, было ослеплено тем, что он на самом деле говорил, их идеологией.
Работа Маурера не только повлияла на исследования поведения животных, но и стала тем способом, которым клиницисты воспринимали страх. С самого начала Маурер интересовался обучением избеганию у животных как инструментом для понимания патологической тревоги человека [63]. В то время психоаналитический подход Фрейда был доминирующим клиническим подходом, и Маурер предположил, что принципы поведенческого обучения могут улучшить клиническое лечение [72]. Впоследствии коллега Маурера, Нил Миллер, продолжил эти усилия, написав книгу под названием "Личность и психотерапия" совместно с психоаналитиком Джоном Доллардом [73]. Но к тому времени психоанализ шел на убыль, и эти усилия, вместо того чтобы расширить сферу психоаналитического лечения, проложили путь к появлению поведенческой терапии [36], а затем когнитивно-поведенческой терапии [41, 74]. Двухфакторная теория Маурера продолжает цитироваться в современном клиническом понимании тревоги [75-77].
Терминология страха стала еще более запутанной в 1970-х годах с возрождением дарвиновского подхода, принятого исследователями-психологами под видом теории базовых эмоций [78-81]. Страх, с этой точки зрения, был врожденной эмоцией, унаследованной от предков млекопитающих в форме нейронной "программы аффекта" или "операционной системы эмоций". Як Панксепп [80, 81], например, использовал доказательства вовлечения миндалины и периакведуктальных серых областей мозга в защитное поведение крыс в качестве основы для постулирования того, что гомологичные операционные системы эмоций лежат в основе не только поведенческих и физиологических реакций, но и субъективного переживания страха как у крыс, так и у людей.
Многие, работающие над схемами, лежащими в основе защитного поведения в традиции физиологической психологии, ориентированной на бихевиоризм, в то время не утруждали себя рассмотрением вопроса о том, что означает страх, поскольку сознательный страх не был началом, и они просто предполагали, что это было несубъективное физиологическое состояние миндалины. Тем не менее, обсуждая значение поведенческих исследований на животных для понимания страха и тревожности как клинических проблем, они часто говорили о страхе в разговорной форме.
Поскольку разговорный способ - это способ, которым большинство людей, включая непрофессионалов, журналистов и большинство ученых, не работающих в области страха, думают о страхе, публичный разговор о цепях страха был о сознательном страхе. В результате идея о миндалине как средоточии чувств страха в мозге стала культурным мемом, который также подразумевал, что лекарства или другие методы лечения, нацеленные на миндалину, могут сделать людей менее боязливыми и тревожными [18, 82, 83].
Трехсистемная модель страха Ланга
В результате непоследовательного использования термина "страх" в 40-х и 50-х годах некоторые исследователи в 1960-х годах начали заново бороться со страхом как научной конструкцией. Работа Питера Ланга была особенно важна.
Ланг отметил ряд примеров в литературе, которые показали, что субъективные переживания страха (измеряемые устными отчетами) плохо коррелируют с объективными и измеримыми поведенческими реакциями (например, избегающим поведением) и физиологическими изменениями (например, частотой сердечных сокращений) [84-86]. Соответственно, он критически относился к тому значению, которое некоторые клиницисты придавали субъективным состояниям, а не поведению и физиологии.
Под сохраняющимся влиянием бихевиоризма и растущего влияния нового когнитивного движения в психологии Ланг предложил переориентировать вербальное поведение. Вместо того чтобы использовать его как способ оценки неосязаемых субъективных переживаний, его следует использовать для отслеживания более ощутимых когнитивных процессов. Затем лечение могло бы быть сосредоточено на изменении вербального поведения, которое, в свою очередь, отражало бы изменения в лежащих в основе когнитивных процессах, во многом подобно тому, как лечение, изменяющее открытое поведение или физиологическое возбуждение, делает это, потому что оно изменяет лежащие в основе процессы.
Выражая свое научное отвращение к субъективному опыту, Ланг отметил: "Независимо от того, рассматриваются ли чувства как причины или следствия, они выходят за рамки прямого научного исследования" ([87], 124). Страх, по его словам, "это не какой-то твердый феноменальный комок, который живет внутри людей" [87]. Вместо этого, это реакция, выраженная в трех системах реагирования: вербальной (когнитивной), явно моторной и соматической. Соответствующие им реакции были самоотчетом для когнитивной системы, поведением (особенно избегающим поведением) для открытой двигательной системы и физиологическими изменениями для соматической системы. Терапия, утверждал он, должна быть сосредоточена на изменении конкретных систем реагирования, поскольку каждая из них в отдельности вносит свой вклад в общую интенсивность страха.
Ланг отметил ряд примеров в литературе, которые показали, что субъективные переживания страха (измеряемые устными отчетами) плохо коррелируют с объективными и измеримыми поведенческими реакциями (например, избегающим поведением) и физиологическими изменениями (например, частотой сердечных сокращений) [84-86]. Соответственно, он критически относился к тому значению, которое некоторые клиницисты придавали субъективным состояниям, а не поведению и физиологии.
Под сохраняющимся влиянием бихевиоризма и растущего влияния нового когнитивного движения в психологии Ланг предложил переориентировать вербальное поведение. Вместо того чтобы использовать его как способ оценки неосязаемых субъективных переживаний, его следует использовать для отслеживания более ощутимых когнитивных процессов. Затем лечение могло бы быть сосредоточено на изменении вербального поведения, которое, в свою очередь, отражало бы изменения в лежащих в основе когнитивных процессах, во многом подобно тому, как лечение, изменяющее открытое поведение или физиологическое возбуждение, делает это, потому что оно изменяет лежащие в основе процессы.
Выражая свое научное отвращение к субъективному опыту, Ланг отметил: "Независимо от того, рассматриваются ли чувства как причины или следствия, они выходят за рамки прямого научного исследования" ([87], 124). Страх, по его словам, "это не какой-то твердый феноменальный комок, который живет внутри людей" [87]. Вместо этого, это реакция, выраженная в трех системах реагирования: вербальной (когнитивной), явно моторной и соматической. Соответствующие им реакции были самоотчетом для когнитивной системы, поведением (особенно избегающим поведением) для открытой двигательной системы и физиологическими изменениями для соматической системы. Терапия, утверждал он, должна быть сосредоточена на изменении конкретных систем реагирования, поскольку каждая из них в отдельности вносит свой вклад в общую интенсивность страха.
Диссонанс и десинхрония
"Трехсистемная модель" Ланга стимулировала множество клинических исследований и теоретизирования [88-94]. Хотя его взгляды оказали наибольшее влияние на клинические исследования, они также повлияли на фундаментальные исследования в области психологии и неврологии.
Одна из проблем заключалась в том, что терминология Ланга (когнитивные, явные моторные и соматические реакции) была немного неясной. Например, "соматический" чаще используется для обозначения скелетно-моторных реакций, лежащих в основе открытого поведения, чем для висцерального вегетативного ответы (например, [95]).
Поэтому в дальнейшем мы будем использовать более простой набор терминов: самоотчет, поведенческие и физиологические реакции.
Под "самоотчетом" мы конкретно подразумеваем словесные отчеты, полученные в результате сознательного переживания страха. Такие сообщения могут быть истолкованы как указывающие на то, что человек испытывает или имел субъективное переживание страха в присутствии угрожающего стимула или ситуации.
Под "физиологическими реакциями" мы подразумеваем увеличение проводимости кожи, частоты сердечных сокращений или других внутренних изменений в организме в ответ на угрожающие стимулы или ситуации.
Под "поведенческими реакциями" мы подразумеваем реакции, вызванные угрозой (замирание, бегство), а также инструментальное поведение, мотивированное угрозой (избегание), выраженное в присутствии угрожающих стимулов или ситуаций [96].
Мы будем использовать эту терминологию для обсуждения двух видов расхождений в этой литературе. Отсутствие согласованности между тремя показателями "страха" в данный момент времени называется диссонансом [90].
В литературе есть много примеров диссонанса [97]. Например, в присутствии угрозы пациенты сообщали о высоком уровне субъективного страха и при этом демонстрировали нормальные или даже низкие уровни физиологических реакций на угрозу (например, частоту сердечных сокращений или показатели проводимости кожи), в то время как другие демонстрировали противоположную картину [89, 98-102]. Другие формы диссонанса наблюдались после фармакологических вмешательств [103]. Лекарства, такие как бета-блокаторы, например, могут ослаблять гиперреактивность вегетативной нервной системы (например, ускорение сердечного ритма) или поведение (например, дрожание рук, ерзание) в присутствии фактических или предполагаемых угроз, не обязательно влияя на субъективное переживание тревоги [104].
Диссонанс отличается от феномена десинхронии. Последнее относится к изменениям уровней трех показателей с течением времени. Например, пациент, проходящий поведенческую терапию по поводу преувеличенного страха или тревоги, может сначала проявлять признаки уменьшения поведенческих и физиологических симптомов, а позже постепенно демонстрировать изменения в самоотчетах о страхе. Об этом сообщил Лэнг в ранних клинических испытаниях [105]. Другой пример относится к десинхронии между избегающим поведением и субъективным страхом. Например, предъявление вызывающих отвращение стимулов часто порождает как избегающее поведение, так и субъективные сообщения о страхе. Но успешное избегание, как правило, приводит к уменьшению сообщений о страхе, в то время как избегающее поведение может сохраняться в течение длительных периодов времени [106].
Случаи диссонанса и десинхронии подчеркивают, что поведенческие и физиологические реакции, которые иногда коррелируют с субъективным страхом, не обязательно следует интерпретировать как указание на то, что человек сознательно испытывает субъективные чувства страха как таковые [54, 55, 107]. Фактически, для ясности, если не для чего иного, мы утверждаем, что термин "страх" следует приберечь для обозначения психического состояния, а поведенческие и физиологические реакции следует называть реакциями "угрозы" или "защиты".
Значительная путаница в литературе о диссонансе и десинхронии также возникла в результате неспособности признать, что в угрожающих ситуациях может возникнуть разнообразное поведение [96]. Типичные для вида (врожденные) реакции (например, поведение замирания) автоматически вызываются безусловными или обусловленными стимулами, в то время как инструментальные реакции (например, избегание) приобретаются их последствиями и проявляются в соответствующих ситуациях.
Типичные для вида реакции на безусловные или обусловленные стимулы имеют надежные физиологические корреляты, которые "подключены" как часть "защитной реакции" [108], но большинство избегающих и других инструментальных реакций этого не делают, поскольку они могут быть достигнуты многими способами [109]. Это может объяснить слабую корреляцию, часто наблюдаемую между физиологическими показателями и поведением избегания [106]. Кроме того, инструментальные реакции избегания, хотя и часто рассматриваются как отдельный класс реакций, могут быть обусловлены усвоением привычек, целенаправленным обучением действиям или когнитивным обдумыванием, каждое из которых включает различные нейронные цепи [96, 110]. В будущих исследованиях следует применять более тонкий подход к поведенческим показателям.
Одна из проблем заключалась в том, что терминология Ланга (когнитивные, явные моторные и соматические реакции) была немного неясной. Например, "соматический" чаще используется для обозначения скелетно-моторных реакций, лежащих в основе открытого поведения, чем для висцерального вегетативного ответы (например, [95]).
Поэтому в дальнейшем мы будем использовать более простой набор терминов: самоотчет, поведенческие и физиологические реакции.
Под "самоотчетом" мы конкретно подразумеваем словесные отчеты, полученные в результате сознательного переживания страха. Такие сообщения могут быть истолкованы как указывающие на то, что человек испытывает или имел субъективное переживание страха в присутствии угрожающего стимула или ситуации.
Под "физиологическими реакциями" мы подразумеваем увеличение проводимости кожи, частоты сердечных сокращений или других внутренних изменений в организме в ответ на угрожающие стимулы или ситуации.
Под "поведенческими реакциями" мы подразумеваем реакции, вызванные угрозой (замирание, бегство), а также инструментальное поведение, мотивированное угрозой (избегание), выраженное в присутствии угрожающих стимулов или ситуаций [96].
Мы будем использовать эту терминологию для обсуждения двух видов расхождений в этой литературе. Отсутствие согласованности между тремя показателями "страха" в данный момент времени называется диссонансом [90].
В литературе есть много примеров диссонанса [97]. Например, в присутствии угрозы пациенты сообщали о высоком уровне субъективного страха и при этом демонстрировали нормальные или даже низкие уровни физиологических реакций на угрозу (например, частоту сердечных сокращений или показатели проводимости кожи), в то время как другие демонстрировали противоположную картину [89, 98-102]. Другие формы диссонанса наблюдались после фармакологических вмешательств [103]. Лекарства, такие как бета-блокаторы, например, могут ослаблять гиперреактивность вегетативной нервной системы (например, ускорение сердечного ритма) или поведение (например, дрожание рук, ерзание) в присутствии фактических или предполагаемых угроз, не обязательно влияя на субъективное переживание тревоги [104].
Диссонанс отличается от феномена десинхронии. Последнее относится к изменениям уровней трех показателей с течением времени. Например, пациент, проходящий поведенческую терапию по поводу преувеличенного страха или тревоги, может сначала проявлять признаки уменьшения поведенческих и физиологических симптомов, а позже постепенно демонстрировать изменения в самоотчетах о страхе. Об этом сообщил Лэнг в ранних клинических испытаниях [105]. Другой пример относится к десинхронии между избегающим поведением и субъективным страхом. Например, предъявление вызывающих отвращение стимулов часто порождает как избегающее поведение, так и субъективные сообщения о страхе. Но успешное избегание, как правило, приводит к уменьшению сообщений о страхе, в то время как избегающее поведение может сохраняться в течение длительных периодов времени [106].
Случаи диссонанса и десинхронии подчеркивают, что поведенческие и физиологические реакции, которые иногда коррелируют с субъективным страхом, не обязательно следует интерпретировать как указание на то, что человек сознательно испытывает субъективные чувства страха как таковые [54, 55, 107]. Фактически, для ясности, если не для чего иного, мы утверждаем, что термин "страх" следует приберечь для обозначения психического состояния, а поведенческие и физиологические реакции следует называть реакциями "угрозы" или "защиты".
Значительная путаница в литературе о диссонансе и десинхронии также возникла в результате неспособности признать, что в угрожающих ситуациях может возникнуть разнообразное поведение [96]. Типичные для вида (врожденные) реакции (например, поведение замирания) автоматически вызываются безусловными или обусловленными стимулами, в то время как инструментальные реакции (например, избегание) приобретаются их последствиями и проявляются в соответствующих ситуациях.
Типичные для вида реакции на безусловные или обусловленные стимулы имеют надежные физиологические корреляты, которые "подключены" как часть "защитной реакции" [108], но большинство избегающих и других инструментальных реакций этого не делают, поскольку они могут быть достигнуты многими способами [109]. Это может объяснить слабую корреляцию, часто наблюдаемую между физиологическими показателями и поведением избегания [106]. Кроме того, инструментальные реакции избегания, хотя и часто рассматриваются как отдельный класс реакций, могут быть обусловлены усвоением привычек, целенаправленным обучением действиям или когнитивным обдумыванием, каждое из которых включает различные нейронные цепи [96, 110]. В будущих исследованиях следует применять более тонкий подход к поведенческим показателям.
Концептуальные проблемы
Учитывая, что между реакциями возникает диссонанс и десинхрония, ключевой вопрос заключается в том, следует ли интерпретировать самоотчет, поведение и физиологию как указание на существование различных психологических конструкций, или же их следует интерпретировать как указания на единую многогранную базовую конструкцию. Это вопрос валидности конструкции [111].
Проверка конструкции обычно достигается путем установления надежных корреляций между результатами различных тестов, предназначенных для измерения одной и той же конструкции. Если бы показатели самоотчета, физиологической активности и поведенческих реакций были систематически коррелированы, было бы относительно просто интерпретировать их как совокупно отражающие единую базовую конструкцию.
Однако исследования, как правило, показывают, что самоотчет разделяет лишь скромную часть своей дисперсии с другими показателями [112], при этом самые оптимистичные оценки указывают примерно на 27-28% общей дисперсии [113].
В этой литературе существуют две основные точки зрения относительно интерпретации диссонанса и десинхронии (для подробного обсуждения их в отношении конструктивной валидности в исследованиях "страха" см. [114]). Первые пытаются спасти единую конструкцию страха, несмотря на существование диссонанса и десинхронии, утверждая, что самоотчет, поведение и физиология являются индикаторами одной и той же базовой конструкции (страха), но что они различаются по степени точности, с которой они отражают конструкцию. Второй постулирует, что три фактора являются независимыми, но взаимодействующими конструктами.
Те, кто придерживается первой точки зрения, утверждают, что использование самоотчетов для оценки страха фактически равносильно использованию неточной процедуры измерения. Например, Фанселоу и Пеннингтон (2018) [82, с. 27] утверждают, что миндалевидное тело является "генератором страха", который контролирует все три типа реакций, но что наиболее надежными показателями являются поведенческие и физиологические результаты. Они пишут, что "дополнительный механизм, необходимый для создания субъективного отчета, вероятно, добавляет дополнительный шум, делая его ... менее чистым и объективным показателем страха". С этой точки зрения, случаи диссонанса и десинхронии объясняются тем фактом, что самоотчеты являются наименее точными из трех показателей от страха [58, 82, 115]. Согласно Фанселоу и Пеннингтону (2018), подчеркивание субъективного переживания страха "отбросит нас более чем на столетие назад, к тому, что действительно было темными веками психиатрии" (стр. 28).
Напротив, те, кто придерживается второй точки зрения, утверждают, что случаи диссонанса и десинхронии указывают на существование отдельных факторов. Например, Леду и коллеги [21, 116-118] утверждают, что, хотя поведенческие и физиологические реакции, вызываемые угрозами, являются продуктами миндалины, субъективный страх отражает когнитивную интерпретацию того, что человек находится в ситуации потенциального или фактического психологического или физического вреда. Такой подход вряд ли можно назвать второстепенной идеей, поскольку когнитивные теории являются ведущими объяснениями эмоций [119-121].
Недавно теория сознания высшего порядка (HOT) (см. вставку 1; [122]), которая обычно обсуждается в связи с визуальным восприятием, была расширена как новое когнитивное объяснение страха и других эмоций [116, 123, 124]. Согласно HOT, сознание возникает, когда когнитивные структуры высшего порядка отслеживают или метапредставляют информацию низшего порядка (см. рис. 1). Простая версия объяснения высшего порядка заключалась бы в том, что сигналы, возникающие в результате последствий поведенческих и физиологических реакций, генерируемых миндалиной в мозге и теле, повторно представлены и способствуют переживанию страха. Но модель также включает в себя схему эмоций и самосхему, а также метапредставления семантических и эпизодических воспоминаний. Эти представления приводят к созданию ментальной модели опасной ситуации, которая может полностью объяснить субъективное переживание страха даже в ситуациях, когда активность миндалины и обратная связь с телом отсутствуют. На то, что это необходимо, ясно указывает диссонанс и десинхрония между субъективным страхом и возбуждением тела. Антонио Дамасио [125] точно так же заметил это и предложил "как будто петли тела", которые имитируют активность мозга и тела, когда они отсутствуют.
Противоречие, связанное с этими двумя точками зрения, отчасти подпитывается долгой и сложной историей субъективных отчетов [29, 126]. Например, некоторые социальные психологи предположили, что самоотчеты о причинах наших собственных действий часто ошибочны [127, 128]. Использование самоотчетов также подвергалось критике в других дисциплинах, таких как социология [129], что указывает на то, что люди иногда проявляют удивительно низкие способности к самопознанию (обзор см. в [130]). Эти доказательства могут быть истолкованы как свидетельствующие о том, что субъективные отчеты систематически неточны и, следовательно, являются ненадежными научными инструментами.
Однако предполагаемые случаи ненадежности - это не случаи, когда испытуемые сообщают о продолжающихся сознательных переживаниях, а вместо этого, как правило, случаи, когда участники сообщают о причинах своего поведения [128] или о давних психологических установках, таких как их убеждения [130]. Помимо патологических случаев (например, синдрома Антона) или злонамеренного обмана, нет значительного объема эмпирических данных, подтверждающих общее отрицание субъективных сообщений о сознательных переживаниях, таких как перцептивные переживания, страх или тревога [131, 132]. На самом деле, самые разнообразные эксперименты в таких областях, как психология восприятия [133] и, что еще более важно, научное изучение эмоций [134], основаны на экспериментально контролируемых субъективных отчетах о том, что испытывает субъект.
Согласно определению валидности Борсбума и др. [135, с. 1061], "тест является валидным для измерения атрибута тогда и только тогда, когда (а) атрибут существует и (б) изменения в атрибуте причинно приводят к изменениям в результатах процедуры измерения".
Учитывая, что самоотчеты могут быть интерпретированы как результат изменений в метапознании (когнитивных репрезентациях), которые непосредственно предшествуют переживанию страха, из этого следует, что самоотчеты являются достоверными индикаторами переживания страха. С другой стороны, поскольку поведение и физиология иногда могут отделяться от чувства страха, интерпретация их как надежных индикаторов страха, если мы следуем Борсбуму, недействительна, хотя и не обязательно бесполезна.
Эти наблюдения согласуются со второй интерпретацией диссонанса и десинхронии в исследованиях страха, рассмотренной выше.
Таким образом, мы считаем, что поведение и физиология, с одной стороны, являются результатом обнаружения угрозы и активности механизмов защиты, в то время как самоотчет, с другой стороны, является результатом метапознания, на котором основан субъективный опыт. Отсюда следует, что самоотчет, который также отражает эти метапознания (рис. 1), является единственным достоверным показателем страха как субъективного переживания.
Проверка конструкции обычно достигается путем установления надежных корреляций между результатами различных тестов, предназначенных для измерения одной и той же конструкции. Если бы показатели самоотчета, физиологической активности и поведенческих реакций были систематически коррелированы, было бы относительно просто интерпретировать их как совокупно отражающие единую базовую конструкцию.
Однако исследования, как правило, показывают, что самоотчет разделяет лишь скромную часть своей дисперсии с другими показателями [112], при этом самые оптимистичные оценки указывают примерно на 27-28% общей дисперсии [113].
В этой литературе существуют две основные точки зрения относительно интерпретации диссонанса и десинхронии (для подробного обсуждения их в отношении конструктивной валидности в исследованиях "страха" см. [114]). Первые пытаются спасти единую конструкцию страха, несмотря на существование диссонанса и десинхронии, утверждая, что самоотчет, поведение и физиология являются индикаторами одной и той же базовой конструкции (страха), но что они различаются по степени точности, с которой они отражают конструкцию. Второй постулирует, что три фактора являются независимыми, но взаимодействующими конструктами.
Те, кто придерживается первой точки зрения, утверждают, что использование самоотчетов для оценки страха фактически равносильно использованию неточной процедуры измерения. Например, Фанселоу и Пеннингтон (2018) [82, с. 27] утверждают, что миндалевидное тело является "генератором страха", который контролирует все три типа реакций, но что наиболее надежными показателями являются поведенческие и физиологические результаты. Они пишут, что "дополнительный механизм, необходимый для создания субъективного отчета, вероятно, добавляет дополнительный шум, делая его ... менее чистым и объективным показателем страха". С этой точки зрения, случаи диссонанса и десинхронии объясняются тем фактом, что самоотчеты являются наименее точными из трех показателей от страха [58, 82, 115]. Согласно Фанселоу и Пеннингтону (2018), подчеркивание субъективного переживания страха "отбросит нас более чем на столетие назад, к тому, что действительно было темными веками психиатрии" (стр. 28).
Напротив, те, кто придерживается второй точки зрения, утверждают, что случаи диссонанса и десинхронии указывают на существование отдельных факторов. Например, Леду и коллеги [21, 116-118] утверждают, что, хотя поведенческие и физиологические реакции, вызываемые угрозами, являются продуктами миндалины, субъективный страх отражает когнитивную интерпретацию того, что человек находится в ситуации потенциального или фактического психологического или физического вреда. Такой подход вряд ли можно назвать второстепенной идеей, поскольку когнитивные теории являются ведущими объяснениями эмоций [119-121].
Недавно теория сознания высшего порядка (HOT) (см. вставку 1; [122]), которая обычно обсуждается в связи с визуальным восприятием, была расширена как новое когнитивное объяснение страха и других эмоций [116, 123, 124]. Согласно HOT, сознание возникает, когда когнитивные структуры высшего порядка отслеживают или метапредставляют информацию низшего порядка (см. рис. 1). Простая версия объяснения высшего порядка заключалась бы в том, что сигналы, возникающие в результате последствий поведенческих и физиологических реакций, генерируемых миндалиной в мозге и теле, повторно представлены и способствуют переживанию страха. Но модель также включает в себя схему эмоций и самосхему, а также метапредставления семантических и эпизодических воспоминаний. Эти представления приводят к созданию ментальной модели опасной ситуации, которая может полностью объяснить субъективное переживание страха даже в ситуациях, когда активность миндалины и обратная связь с телом отсутствуют. На то, что это необходимо, ясно указывает диссонанс и десинхрония между субъективным страхом и возбуждением тела. Антонио Дамасио [125] точно так же заметил это и предложил "как будто петли тела", которые имитируют активность мозга и тела, когда они отсутствуют.
Противоречие, связанное с этими двумя точками зрения, отчасти подпитывается долгой и сложной историей субъективных отчетов [29, 126]. Например, некоторые социальные психологи предположили, что самоотчеты о причинах наших собственных действий часто ошибочны [127, 128]. Использование самоотчетов также подвергалось критике в других дисциплинах, таких как социология [129], что указывает на то, что люди иногда проявляют удивительно низкие способности к самопознанию (обзор см. в [130]). Эти доказательства могут быть истолкованы как свидетельствующие о том, что субъективные отчеты систематически неточны и, следовательно, являются ненадежными научными инструментами.
Однако предполагаемые случаи ненадежности - это не случаи, когда испытуемые сообщают о продолжающихся сознательных переживаниях, а вместо этого, как правило, случаи, когда участники сообщают о причинах своего поведения [128] или о давних психологических установках, таких как их убеждения [130]. Помимо патологических случаев (например, синдрома Антона) или злонамеренного обмана, нет значительного объема эмпирических данных, подтверждающих общее отрицание субъективных сообщений о сознательных переживаниях, таких как перцептивные переживания, страх или тревога [131, 132]. На самом деле, самые разнообразные эксперименты в таких областях, как психология восприятия [133] и, что еще более важно, научное изучение эмоций [134], основаны на экспериментально контролируемых субъективных отчетах о том, что испытывает субъект.
Согласно определению валидности Борсбума и др. [135, с. 1061], "тест является валидным для измерения атрибута тогда и только тогда, когда (а) атрибут существует и (б) изменения в атрибуте причинно приводят к изменениям в результатах процедуры измерения".
Учитывая, что самоотчеты могут быть интерпретированы как результат изменений в метапознании (когнитивных репрезентациях), которые непосредственно предшествуют переживанию страха, из этого следует, что самоотчеты являются достоверными индикаторами переживания страха. С другой стороны, поскольку поведение и физиология иногда могут отделяться от чувства страха, интерпретация их как надежных индикаторов страха, если мы следуем Борсбуму, недействительна, хотя и не обязательно бесполезна.
Эти наблюдения согласуются со второй интерпретацией диссонанса и десинхронии в исследованиях страха, рассмотренной выше.
Таким образом, мы считаем, что поведение и физиология, с одной стороны, являются результатом обнаружения угрозы и активности механизмов защиты, в то время как самоотчет, с другой стороны, является результатом метапознания, на котором основан субъективный опыт. Отсюда следует, что самоотчет, который также отражает эти метапознания (рис. 1), является единственным достоверным показателем страха как субъективного переживания.
Вставка 1. Теории первого порядка против теорий более высокого порядка
В науке о сознании одна из основных тем разногласий касается происхождения сознания в мозге. Здесь, когда мы говорим "сознание", мы имеем в виду то, что иногда называют феноменальным сознанием, то есть качественное или феноменальное "ощущение" переживаний. Например, созерцание заката имеет субъективный характер, который можно описать в терминах "на что это похоже". Это отличается от того, что можно назвать состояниями сознания, которые изучаются, например, у пациентов с минимальным сознанием или во сне. Несмотря на несомненную важность, особенно для клинической практики, изучение состояний сознания напрямую не затрагивает вопрос о том, как мозг генерирует это субъективное "ощущение" вещей.
Хотя многие теории феноменального сознания дают сильно отличающиеся друг от друга предсказания [156], их можно в целом разделить на две категории. Теории первого порядка, такие как теория рекуррентной обработки [157-160], утверждают, что сознание возникает в областях мозга, специализированных на обработке определенного типа информации (например, зрительная или слуховая кора). Как мы видели в основном тексте, некоторые авторы предположили, что миндалевидное тело может быть такой структурой первого порядка в субъективном переживании страха [81, 82, 161]. Другая теория первого порядка, теория глобального нейронного рабочего пространства, утверждает, что активность в структурах первого порядка становится осознанной, когда она становится доступной другим областям мозга через механизм глобальной трансляции.
Напротив, теории более высокого порядка предполагают, что этих структур первого порядка может быть недостаточно для того, чтобы информация стала осознанной [122, 162, 163]. Они утверждают, что для мониторинга информации могут потребоваться некоторые дополнительные когнитивные процессы в других регионах. С этой точки зрения субъективный опыт возникает в результате механизма, тесно связанного с метапознанием, которое также включает в себя мониторинг собственной когнитивной и сенсорной обработки [164]. Таким образом, информация, представленная в структурах первого порядка, должна оставаться бессознательной, если не задействована обработка более высокого порядка. Что касается страха, то эта точка зрения утверждает, что миндалевидное тело бессознательно контролирует защитные поведенческие и физиологические реакции на угрозы, но для того, чтобы генерировать субъективный опыт в ответ на тот же угрожающий стимул, требуются процессы более высокого порядка. [54, 55, 107, 116, 163]. С этой точки зрения, повторное представление информации первого порядка (часто называемое метапредставлением) является бессознательным предшественником сознания. Мы предполагаем, что стратегии лечения, нацеленные как на субъективный (сознательный опыт), так и на объективный (поведенческие и физиологические реакции), будут более эффективными, чем подходы, которые в первую очередь фокусируются на объективных реакциях. Мы также предполагаем, что показатели диссонанса и десинхронии могут обеспечить дополнительные показатели прогресса лечения.
В науке о сознании одна из основных тем разногласий касается происхождения сознания в мозге. Здесь, когда мы говорим "сознание", мы имеем в виду то, что иногда называют феноменальным сознанием, то есть качественное или феноменальное "ощущение" переживаний. Например, созерцание заката имеет субъективный характер, который можно описать в терминах "на что это похоже". Это отличается от того, что можно назвать состояниями сознания, которые изучаются, например, у пациентов с минимальным сознанием или во сне. Несмотря на несомненную важность, особенно для клинической практики, изучение состояний сознания напрямую не затрагивает вопрос о том, как мозг генерирует это субъективное "ощущение" вещей.
Хотя многие теории феноменального сознания дают сильно отличающиеся друг от друга предсказания [156], их можно в целом разделить на две категории. Теории первого порядка, такие как теория рекуррентной обработки [157-160], утверждают, что сознание возникает в областях мозга, специализированных на обработке определенного типа информации (например, зрительная или слуховая кора). Как мы видели в основном тексте, некоторые авторы предположили, что миндалевидное тело может быть такой структурой первого порядка в субъективном переживании страха [81, 82, 161]. Другая теория первого порядка, теория глобального нейронного рабочего пространства, утверждает, что активность в структурах первого порядка становится осознанной, когда она становится доступной другим областям мозга через механизм глобальной трансляции.
Напротив, теории более высокого порядка предполагают, что этих структур первого порядка может быть недостаточно для того, чтобы информация стала осознанной [122, 162, 163]. Они утверждают, что для мониторинга информации могут потребоваться некоторые дополнительные когнитивные процессы в других регионах. С этой точки зрения субъективный опыт возникает в результате механизма, тесно связанного с метапознанием, которое также включает в себя мониторинг собственной когнитивной и сенсорной обработки [164]. Таким образом, информация, представленная в структурах первого порядка, должна оставаться бессознательной, если не задействована обработка более высокого порядка. Что касается страха, то эта точка зрения утверждает, что миндалевидное тело бессознательно контролирует защитные поведенческие и физиологические реакции на угрозы, но для того, чтобы генерировать субъективный опыт в ответ на тот же угрожающий стимул, требуются процессы более высокого порядка. [54, 55, 107, 116, 163]. С этой точки зрения, повторное представление информации первого порядка (часто называемое метапредставлением) является бессознательным предшественником сознания. Мы предполагаем, что стратегии лечения, нацеленные как на субъективный (сознательный опыт), так и на объективный (поведенческие и физиологические реакции), будут более эффективными, чем подходы, которые в первую очередь фокусируются на объективных реакциях. Мы также предполагаем, что показатели диссонанса и десинхронии могут обеспечить дополнительные показатели прогресса лечения.
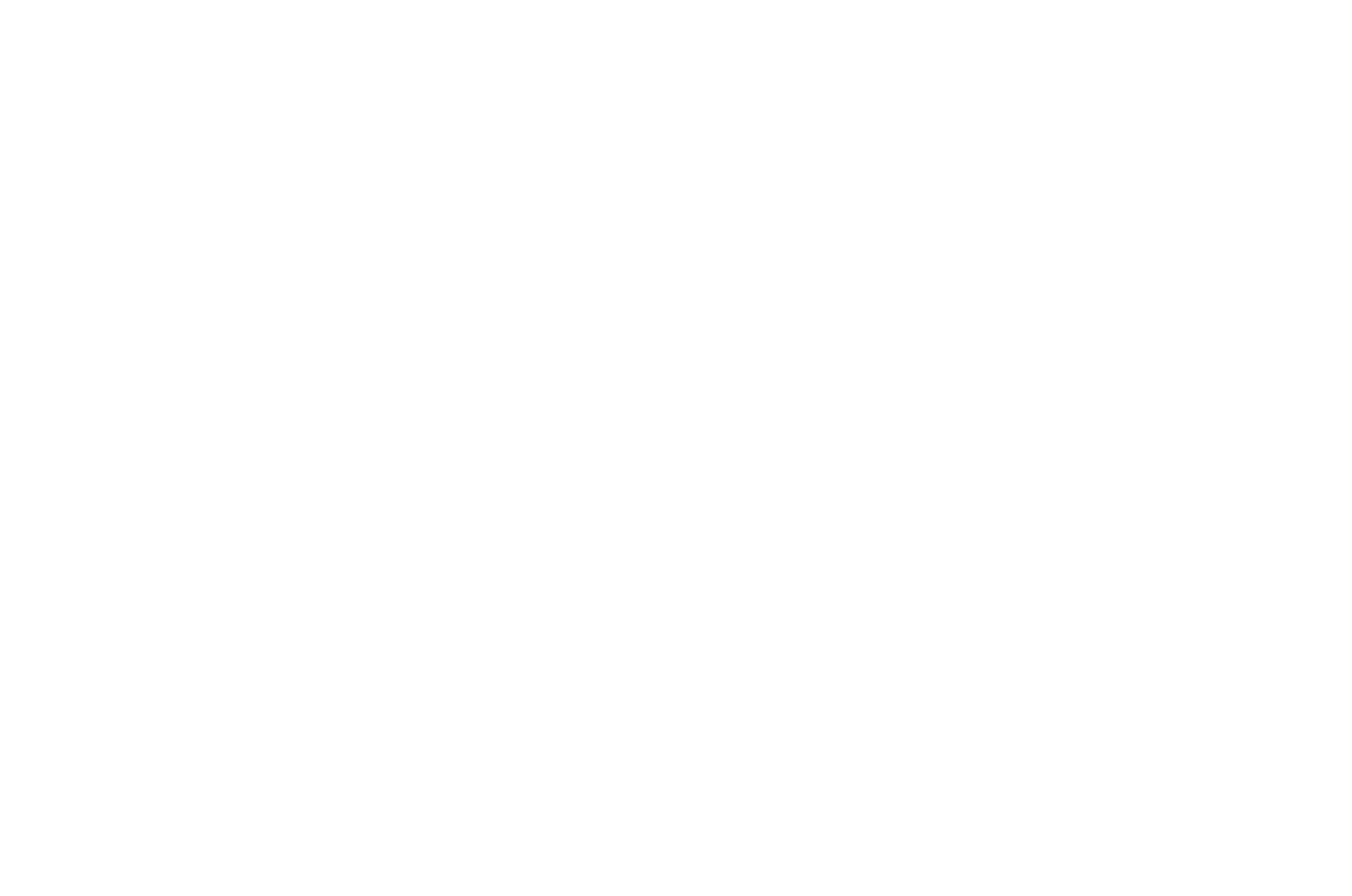
Рис. 1 Диссонанс и десинхрония в свете перспективы более высокого порядка.
Угрожающие стимулы часто приводят к субъективному страху через контур высшего порядка и параллельно запускают телесные реакции (поведенческие и физиологические реакции) через защитный контур выживания. Эта модель более высокого порядка может учитывать ситуации, когда субъективные и объективные реакции являются диссонирующими или десинхронными. Например, блокирование физиологических реакций (X1) отделяет их от обусловленных или прогнозируемых действий и/или сознательного опыта, в то время как блокирование физиологических реакций (X2) отделяет их от поведенческих реакций и/или сознательного опыта. Аналогичная логика применима к X3 и X4. И вегетативная нервная система.
Угрожающие стимулы часто приводят к субъективному страху через контур высшего порядка и параллельно запускают телесные реакции (поведенческие и физиологические реакции) через защитный контур выживания. Эта модель более высокого порядка может учитывать ситуации, когда субъективные и объективные реакции являются диссонирующими или десинхронными. Например, блокирование физиологических реакций (X1) отделяет их от обусловленных или прогнозируемых действий и/или сознательного опыта, в то время как блокирование физиологических реакций (X2) отделяет их от поведенческих реакций и/или сознательного опыта. Аналогичная логика применима к X3 и X4. И вегетативная нервная система.
Клинический прагматизм
В дополнение к своим научным достоинствам, наш взгляд на конструкцию субъективного страха согласуется с тем, как пациенты выражают свои опасения в клинических условиях, и часто это то, что их волнует больше всего. С клинической точки зрения проблема обычно достигает уровня клинической значимости только в том случае, если она связана со значительным субъективным расстройством и/или вмешивается в жизнь человека. Без субъективного переживания дистресса очень трудно сделать вывод о том, что индивид страдает от эмоционального расстройства. Вот почему субъективный дистресс является основной характеристикой определения эмоционального расстройства (например, в DSM-5). С этой точки зрения самоотчет является наиболее прямым показателем проблемы пациента и эффективности лечения. Таким образом, будь то имплицитный или явный, субъективный опыт пациента был фокусом всех психических расстройств, особенно эмоциональных расстройств.
В то же время данные самоотчета редко напрямую определяют клинический статус. Вместо этого субъективный отчет пациента фильтруется и интерпретируется врачом для получения клинической оценки. Отчасти это связано с тем, что клиницисты давно признали, что полагаться только на самоотчет в своей клинической оценке сопряжено с некоторыми ограничениями. Как мы обсуждали в разделе "Концептуальные проблемы", самоотчет о вспомнившихся причинах прошлого поведения [128] или об убеждениях [130] иногда может вводить в заблуждение. Такие наблюдения, наряду с влиянием бихевиористского движения, подпитали общую тенденцию в психиатрических исследованиях к поиску объективных (поведенческих и физиологических) маркеров патологии. Например, хотя инициатива по критериям предметной области исследований (RDoc) NIMH (Национального института психического здоровья в Соединенные Штаты) [43, 44] претендует на признание важности человеческой психологии, ее взгляд на самоотчет в лучшем случае амбивалентен: "эмпирические утверждения представляют собой своего рода "народную" психологию самости, которую [не следует] считать достоверной". В нем также признается, что эти утверждения не следует "просто сбрасывать со счетов" [44, с. 292]. Таким образом, конечной целью психиатрических исследований в наше время главным образом является выявление биологических маркеров психических расстройств, сходных с другими медицинскими заболеваниями.
Некоторые сопротивлялись этой тенденции и выступали за важность субъективных отчетов [136-138]. Например, Эдна Фоа [139], ведущий клинический исследователь, отметила, что самоотчет генерирует "достоверные показатели ключевых конструктов, некоторые из которых не могут быть измерены никаким другим способом, а иногда являются лучшей мерой интересующей конструкции".
Аналогичным образом, мы [3, 21, 55] и другие [45] утверждали, что эмоции - это прежде всего субъективные переживания. В результате самоотчет должен играть значительно более заметную роль в клинической практике. Она может быть собрана с помощью клинических интервью, ежедневных дневников, воздействия in vivo, компьютеризированных заданий или с использованием подходов виртуальной реальности. И учитывая, что теперь мы лучше понимаем различные факторы, влияющие на валидность и надежность самоотчета, мы можем работать над улучшением клинических инструментов, прокладывая путь к более строгим и достоверным оценкам субъективного опыта в клинической практике.
Проводя различие между физиологическими, поведенческими показателями и показателями самоотчета, исследования страха и тревожности могут использовать действительные и надежные процедуры для рассмотрения каждой из этих конструкций, когда это необходимо. Например, в отличие от физиологических реакций, субъективные оценки во время процедуры, направленной на угасание реакции (т.е. ожидание безусловного стимула), являются прогностическими для аффективных оценок после экспозиции, клинически значимого показателя, связанного с рецидивом страха [140]. Важно отметить, что эта ассоциация наблюдалась, даже несмотря на то, что субъективные оценки также коррелировали с физиологическими реакциями на различных этапах эксперимента.
Кроме того, из недавнего мета-анализа получено еще одно доказательство, указывающее на то, что психотерапия и фармакотерапия могут оказывать очень разные эффекты на мозг [141]. Точнее, результаты предполагают, что психотерапия может быть нацелена на когнитивные процессы и схемы в префронтальной коре, в то время как антидепрессивные препараты могут в первую очередь воздействовать на миндалину и базальные ганглии. Как мы видели выше, есть основания полагать, что объективные показатели могут в первую очередь исходить из защитного контура выживания, который включает миндалину, в то время как субъективный опыт, вероятно, генерируется контуром более высокого порядка, который включает префронтальную кору [141-143]. Таким образом, эти примеры подчеркивают дополнительные преимущества рассмотрения трех конструкций по отдельности, поскольку каждая из них предоставляет различную информацию и может потребовать различных стратегий лечения.
Кроме того, изучая, как естественным образом возникают диссонанс и десинхрония между тремя показателями, возможно, удастся адаптировать терапию к индивидуальным потребностям пациентов [21, 144-146]. Эта идея, в частности, была выдвинута некоторое время назад Рахманом [89] и Майкельсоном [100], которые предположили, что поведенческая терапия может быть особенно эффективной, если у пациента преувеличенные поведенческие или физиологические реакции, но низкий уровень страха, о котором он сам сообщает. Однако такой "индивидуальный" подход следует использовать с осторожностью, поскольку лечение исключительно систем объективного реагирования может привести к рецидиву субъективной системы, и наоборот [21].
Ранние сообщения также выявили гендерные различия в диссонансе и десинхронии [147]. В некоторых ситуациях мужчины демонстрировали более низкие уровни негативных эмоций, о которых они сами сообщали, по сравнению с женщинами, даже когда их физиологические реакции были высокими [148]. Как можно себе представить, подобные эффекты вполне могут модулироваться возрастными и культурными факторами. Если мы сможем отследить, каковы систематические факторы, модулирующие воздействие на диссонанс, это может помочь установить, что диссонанс является реальным, значимым явлением, а не только из-за шумности отдельных мер. Кроме того, такие выводы могут помочь достичь лучшего понимания лежащих в их основе механизмов.
Как только люди будут идентифицированы как имеющие более высокие степени диссонанса и / или десинхронии, станет возможным изучить, как структура и физиология их мозга могут быть связаны с такими вариациями. В работе Taschereau-Dumouchel et al. (2020) [142] мы определили области мозга, которые особенно важны для расшифровки самоотчета в сравнении с физиологическими реакциями на угрозу. Изучение связи между этими различными регионами — как оценивается с помощью структурной визуализации, основанной на данных диффузии или ФМРТ в состоянии покоя, - также может предсказать индивидуальные различия в диссонансе и десинхронии [145, 146]. Аналогичным образом, алгоритмы машинного обучения, обученные предсказывать самоотчет, физиологию и поведение [142, 149], также могли бы помочь нам выявить мозговые механизмы, связанные с диссонансом и десинхронией. Таким образом, изучение таких индивидуальных различий в мозговых процессах может помочь нам лучше понять, как диссонанс и десинхрония связаны с патологическими состояниями.
Таким образом, различие между этими тремя показателями может иметь большие клинические преимущества. В то же время мы не должны упускать из виду тот факт, что они являются взаимосвязанными конструктами, отчасти потому, что они являются последствиями одного и того же внешнего стимула. И хотя мозговые процессы, лежащие в основе каждого из них, различны, они взаимодействуют.
В то же время данные самоотчета редко напрямую определяют клинический статус. Вместо этого субъективный отчет пациента фильтруется и интерпретируется врачом для получения клинической оценки. Отчасти это связано с тем, что клиницисты давно признали, что полагаться только на самоотчет в своей клинической оценке сопряжено с некоторыми ограничениями. Как мы обсуждали в разделе "Концептуальные проблемы", самоотчет о вспомнившихся причинах прошлого поведения [128] или об убеждениях [130] иногда может вводить в заблуждение. Такие наблюдения, наряду с влиянием бихевиористского движения, подпитали общую тенденцию в психиатрических исследованиях к поиску объективных (поведенческих и физиологических) маркеров патологии. Например, хотя инициатива по критериям предметной области исследований (RDoc) NIMH (Национального института психического здоровья в Соединенные Штаты) [43, 44] претендует на признание важности человеческой психологии, ее взгляд на самоотчет в лучшем случае амбивалентен: "эмпирические утверждения представляют собой своего рода "народную" психологию самости, которую [не следует] считать достоверной". В нем также признается, что эти утверждения не следует "просто сбрасывать со счетов" [44, с. 292]. Таким образом, конечной целью психиатрических исследований в наше время главным образом является выявление биологических маркеров психических расстройств, сходных с другими медицинскими заболеваниями.
Некоторые сопротивлялись этой тенденции и выступали за важность субъективных отчетов [136-138]. Например, Эдна Фоа [139], ведущий клинический исследователь, отметила, что самоотчет генерирует "достоверные показатели ключевых конструктов, некоторые из которых не могут быть измерены никаким другим способом, а иногда являются лучшей мерой интересующей конструкции".
Аналогичным образом, мы [3, 21, 55] и другие [45] утверждали, что эмоции - это прежде всего субъективные переживания. В результате самоотчет должен играть значительно более заметную роль в клинической практике. Она может быть собрана с помощью клинических интервью, ежедневных дневников, воздействия in vivo, компьютеризированных заданий или с использованием подходов виртуальной реальности. И учитывая, что теперь мы лучше понимаем различные факторы, влияющие на валидность и надежность самоотчета, мы можем работать над улучшением клинических инструментов, прокладывая путь к более строгим и достоверным оценкам субъективного опыта в клинической практике.
Проводя различие между физиологическими, поведенческими показателями и показателями самоотчета, исследования страха и тревожности могут использовать действительные и надежные процедуры для рассмотрения каждой из этих конструкций, когда это необходимо. Например, в отличие от физиологических реакций, субъективные оценки во время процедуры, направленной на угасание реакции (т.е. ожидание безусловного стимула), являются прогностическими для аффективных оценок после экспозиции, клинически значимого показателя, связанного с рецидивом страха [140]. Важно отметить, что эта ассоциация наблюдалась, даже несмотря на то, что субъективные оценки также коррелировали с физиологическими реакциями на различных этапах эксперимента.
Кроме того, из недавнего мета-анализа получено еще одно доказательство, указывающее на то, что психотерапия и фармакотерапия могут оказывать очень разные эффекты на мозг [141]. Точнее, результаты предполагают, что психотерапия может быть нацелена на когнитивные процессы и схемы в префронтальной коре, в то время как антидепрессивные препараты могут в первую очередь воздействовать на миндалину и базальные ганглии. Как мы видели выше, есть основания полагать, что объективные показатели могут в первую очередь исходить из защитного контура выживания, который включает миндалину, в то время как субъективный опыт, вероятно, генерируется контуром более высокого порядка, который включает префронтальную кору [141-143]. Таким образом, эти примеры подчеркивают дополнительные преимущества рассмотрения трех конструкций по отдельности, поскольку каждая из них предоставляет различную информацию и может потребовать различных стратегий лечения.
Кроме того, изучая, как естественным образом возникают диссонанс и десинхрония между тремя показателями, возможно, удастся адаптировать терапию к индивидуальным потребностям пациентов [21, 144-146]. Эта идея, в частности, была выдвинута некоторое время назад Рахманом [89] и Майкельсоном [100], которые предположили, что поведенческая терапия может быть особенно эффективной, если у пациента преувеличенные поведенческие или физиологические реакции, но низкий уровень страха, о котором он сам сообщает. Однако такой "индивидуальный" подход следует использовать с осторожностью, поскольку лечение исключительно систем объективного реагирования может привести к рецидиву субъективной системы, и наоборот [21].
Ранние сообщения также выявили гендерные различия в диссонансе и десинхронии [147]. В некоторых ситуациях мужчины демонстрировали более низкие уровни негативных эмоций, о которых они сами сообщали, по сравнению с женщинами, даже когда их физиологические реакции были высокими [148]. Как можно себе представить, подобные эффекты вполне могут модулироваться возрастными и культурными факторами. Если мы сможем отследить, каковы систематические факторы, модулирующие воздействие на диссонанс, это может помочь установить, что диссонанс является реальным, значимым явлением, а не только из-за шумности отдельных мер. Кроме того, такие выводы могут помочь достичь лучшего понимания лежащих в их основе механизмов.
Как только люди будут идентифицированы как имеющие более высокие степени диссонанса и / или десинхронии, станет возможным изучить, как структура и физиология их мозга могут быть связаны с такими вариациями. В работе Taschereau-Dumouchel et al. (2020) [142] мы определили области мозга, которые особенно важны для расшифровки самоотчета в сравнении с физиологическими реакциями на угрозу. Изучение связи между этими различными регионами — как оценивается с помощью структурной визуализации, основанной на данных диффузии или ФМРТ в состоянии покоя, - также может предсказать индивидуальные различия в диссонансе и десинхронии [145, 146]. Аналогичным образом, алгоритмы машинного обучения, обученные предсказывать самоотчет, физиологию и поведение [142, 149], также могли бы помочь нам выявить мозговые механизмы, связанные с диссонансом и десинхронией. Таким образом, изучение таких индивидуальных различий в мозговых процессах может помочь нам лучше понять, как диссонанс и десинхрония связаны с патологическими состояниями.
Таким образом, различие между этими тремя показателями может иметь большие клинические преимущества. В то же время мы не должны упускать из виду тот факт, что они являются взаимосвязанными конструктами, отчасти потому, что они являются последствиями одного и того же внешнего стимула. И хотя мозговые процессы, лежащие в основе каждого из них, различны, они взаимодействуют.
Движение вперед
По сей день роль субъективного опыта в ведущих теориях эмоций остается маргинальной. Теоретики базовых эмоций склонны подчеркивать мимическое выражение эмоций, в меньшей степени, и вегетативные реакции в большей степени, чем субъективные переживания [79, 150]. Теоретики когнитивной оценки придают больший вес субъективному опыту, чем теории базовых эмоций, но они обычно рассматривают его как один компонент из нескольких, которые в совокупности составляют эмоцию [151]. Теории когнитивного конструирования, с другой стороны, уважают центральную роль субъективного опыта и рассматривают его как концептуализированный побочный продукт валентности и возбуждения [152].
Наша теория высшего порядка, в некотором смысле, конструктивистская и концептуальная по своей природе, но она имеет более широкий взгляд на бессознательные причины [107, 116, 118, 123, 145, 153], и это подчеркивает идею о том, что сознательный опыт - это эмоция (также см. [45]).).
Учитывая маргинальную роль субъективного опыта в исследовании эмоций и тот факт, что объективные показатели физиологии и поведения являются относительно плохими показателями субъективного страдания, мы [3, 21, 55] и другие [45] сочли необходимым выразить обеспокоенность. В некоторых смежных областях к этому вопросу уже давно относятся серьезно. Например, при изучении боли самоотчет является традиционным золотым стандартом отчасти из-за хорошо известных случаев диссонанса (см. [154]), мало чем отличающихся от тех, которые мы подчеркивали. Но исследования многих психических расстройств, к сожалению, в целом не принесли пользы от подобного прозрения. В связи с появлением дискуссий о других расстройствах [155] мы думаем, что настало время для перемен.
Прогресс в научном изучении сознания и недавняя работа, применяющая эти знания для изучения эмоционального сознания, открывает двери для нового начала разработки методов лечения, которые, как мы надеемся, будут лучше ориентированы на субъективные аспекты психических расстройств. Однако, чтобы добиться успеха, это потребует переоценки некоторых неявных допущений наследия бихевиористов и медицинских моделей, которые остаются источниками бессознательных выводов, направляющих исследования и теорию. Однако мы уверены, что продвигаемый нами подход приведет к новым вмешательствам, в том числе персонализированным, способным более полно бороться с психическими расстройствами.
Наша теория высшего порядка, в некотором смысле, конструктивистская и концептуальная по своей природе, но она имеет более широкий взгляд на бессознательные причины [107, 116, 118, 123, 145, 153], и это подчеркивает идею о том, что сознательный опыт - это эмоция (также см. [45]).).
Учитывая маргинальную роль субъективного опыта в исследовании эмоций и тот факт, что объективные показатели физиологии и поведения являются относительно плохими показателями субъективного страдания, мы [3, 21, 55] и другие [45] сочли необходимым выразить обеспокоенность. В некоторых смежных областях к этому вопросу уже давно относятся серьезно. Например, при изучении боли самоотчет является традиционным золотым стандартом отчасти из-за хорошо известных случаев диссонанса (см. [154]), мало чем отличающихся от тех, которые мы подчеркивали. Но исследования многих психических расстройств, к сожалению, в целом не принесли пользы от подобного прозрения. В связи с появлением дискуссий о других расстройствах [155] мы думаем, что настало время для перемен.
Прогресс в научном изучении сознания и недавняя работа, применяющая эти знания для изучения эмоционального сознания, открывает двери для нового начала разработки методов лечения, которые, как мы надеемся, будут лучше ориентированы на субъективные аспекты психических расстройств. Однако, чтобы добиться успеха, это потребует переоценки некоторых неявных допущений наследия бихевиористов и медицинских моделей, которые остаются источниками бессознательных выводов, направляющих исследования и теорию. Однако мы уверены, что продвигаемый нами подход приведет к новым вмешательствам, в том числе персонализированным, способным более полно бороться с психическими расстройствами.
REFERENCES
1. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62:593–602.
Molecular Psychiatry (2022) 27:1322 – 1330
V. Taschereau-Dumouchel et al.
1327
2. LeDoux JE. The emotional brain: the mysterious underpinnings of emotional life. Simon and Schuster; 1996.
3. LeDoux JE. Anxious: using the brain to understand and treat fear and anxiety. Penguin; 2015.
4. Morrison FG, Ressler KJ. From the neurobiology of extinction to improved clinical treatments. Depress Anxiety. 2014;31:279–90.
5. Perusini JN, Fanselow MS. Neurobehavioral perspectives on the distinction between fear and anxiety. Learn Mem. 2015;22:417–25.
6. File SE. Factors controlling measures of anxiety and responses to novelty in the mouse. Behav Brain Res. 2001;125:151–7.
7. Lang PJ, Davis M. Emotion, motivation, and the brain: reflex foundations in animal and human research. Prog Brain Res. 2006;156:3–29.
8. Gray JA, McNaughton N. The psychology of anxiety and enquiry in to the func- tions of the septo hippocampus system. New York: Oxford University Press; 2000.
9. Hartley CA, Phelps EA. Changing fear: the neurocircuitry of emotion regulation.
Neuropsychopharmacology. 2010;35:136–46.
10. Büchel C, Dolan RJ. Classical fear conditioning in functional neuroimaging. Curr
Opin Neurobiol. 2000;10:219–23.
11. Grupe DW, Nitschke JB. Uncertainty and anticipation in anxiety: an integrated
neurobiological and psychological perspective. Nat Rev Neurosci. 2013;14:
488–501.
12. Krystal JH, Deutsch DN, Charney DS. The biological basis of panic disorder. J Clin
Psychiatry 1996;57:23–31. Discussion 32–33
13. Maren S, Phan KL, Liberzon I. The contextual brain: implications for fear con-
ditioning, extinction and psychopathology. Nat Rev Neurosci. 2013;14:417–28.
14. Craske MG, Kircanski K, Zelikowsky M, Mystkowski J, Chowdhury N, Baker A. Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. Behav Res Ther.
2008;46:5–27.
15. Ehlers A, Bisson J, Clark DM, Creamer M, Pilling S, Richards D, et al. Do all
psychological treatments really work the same in posttraumatic stress disorder?
Clin Psychol Rev. 2010;30:269–76.
16. Barlow DH, Raffa SD, Cohen EM. Psychosocial treatments for panic disorders,
phobias, and generalized anxiety disorder. In: Nathan PE, Gorman JM, editors. A
guide to treatments that work, Oxford University Press; 2002.
17. Hofmann SG, Asmundson GJG, Beck AT. The science of cognitive therapy. Behav
Ther. 2013;44:199–212.
18. Milad MR, Quirk GJ. Fear extinction as a model for translational neuroscience:
ten years of progress. Annu Rev Psychol. 2012;63:129–51.
19. Mathew SJ, Coplan JD, Gorman JM. Neurobiological mechanisms of social
anxiety disorder. Am J Psychiatry. 2001;158:1558–67.
20. Griebel G, Holmes A. 50 years of hurdles and hope in anxiolytic drug discovery.
Nat Rev Drug Discov. 2013;12:667–87.
21. LeDoux JE, Pine DS. Using neuroscience to help understand fear and anxiety: a
two-system framework. Am J Psychiatry. 2016;173:1083–93.
22. LeDoux JE, Hofmann SG. The subjective experience of emotion: a fearful view.
Curr Opin Behav Sci. 2018;19:67–72.
23. Hyman SE. Revolution stalled. Sci Transl Med. 2012;4:155cm11.
24. Miller G. Is pharma running out of brainy ideas? Science 2010;329:502–4.
25. Darwin C. The expression of the emotions in man and animals. London: John
Murray; 1872.
26. James W. What is an emotion? Mind 1884;9:188–205.
27. Cannon WB. Organization for physiological homeostasis. Physiol Rev.
1929;9:399–431.
28. Keller FS. The definition of psychology. 2nd ed. Appleton-Century-Crofts; 1973.
29. Boring EG. A history of introspection. Psychol Bull. 1953;50:169–89.
30. Watson JB. Psychology as the behaviorist views it. Psychol Rev. 1913;20:158–77.
31. Stellar E. The physiology of motivation. Psychol Rev. 1954;61:5–22.
32. Olds J. Pleasure centers in the brain. Sci Am. 1956;195:105–17.
33. Weiskrantz L. Behavioral changes associated with ablation of the amygdaloid
complex in monkeys. J Comp Physiol Psychol. 1956;49:381–91.
34. Goddard GV. Functions of the amygdala. Psychol Bull. 1964;62:89–109.
35. Miller GA, Galanter E, Pribram KH. Plans and the structure of behavior. Martino
Fine Books; 2013.
36. Wolpe J. Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford, CA: Stanford Uni-
versity Press; 1958.
37. Bandura A. Psychotherapy as a learning process. Psychol Bull. 1961;58:143–59.
38. Braslow JT, Marder SR. History of psychopharmacology. Annu Rev Clin Psychol.
2019;15:25–50.
39. Valenstein E. Blaming the brain. New York: Free Press; 1999.
40. Wittenborn JR. The clinical psychopharmacology of anxiety. Springfield: C.C.
Thomas; 1966.
41. Ellis A. Rational psychotherapy and individual psychology. J Individ Psychol.
1957;13:38–44.
42. Beck AT. Thinking and depression. II. Theory and therapy. Arch Gen Psychiatry.
43. Insel T, Cuthbert B, Garvey M, Heinssen R, Pine DS, Quinn K, et al. Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for research on mental disorders. Am J Psychiatry. 2010;167:748–51.
44. Kozak MJ, Cuthbert BN. The NIMH Research Domain Criteria Initiative: back- ground, issues, and pragmatics. Psychophysiology 2016;53:286–97.
45. Lieberman MD. Boo! The consciousness problem in emotion. Cogn Emot. 2019;33:24–30.
46. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013.
47. Moncrieff J. The myth of the chemical cure: a critique of psychiatric drug treatment. Springer; 2016.
48. Harrington A. Mind fixers: psychiatry's troubled search for the biology of mental illness. W. W. Norton & Company; 2019.
49. Ivanov I, Schwartz JM. Why psychotropic drugs don't cure mental illness—but should they? Front Psychiatry. 2021;12.
50. Greenberg G. The psychiatric drug crisis. New Yorker. 2013;3.
51. Hyman SE. Psychiatric drug development: diagnosing a crisis. Cerebrum
2013;2013:5.
52. Braslow JT, Brekke JS, Levenson J. Psychiatry's myopia-reclaiming the social, cul-
tural, and psychological in the psychiatric gaze. JAMA Psychiatry. 2020;78:349. 53. Michel M. Consciousness science underdetermined: a short history of endless
debates. Ergo. 2019;6.
54. LeDoux JE. Coming to terms with fear. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111:2871–8. 55. LeDoux JE. Semantics, surplus meaning, and the science of fear. Trends Cogn
Sci. 2017;21:303–6.
56. Tolman EC. Purposive behavior in animals and man. New York: Century; 1932. 57. Brown JS, Farber IE. Emotions conceptualized as intervening variables—with
suggestions toward a theory of frustration. Psychol Bull. 1951;48:465–95.
58. Kozak MJ, Miller GA. Hypothetical constructs versus intervening variables: a re- appraisal of the three-systems model of anxiety assessment. Behav Assess.
1982;4:347–58.
59. Marx MH. Intervening variable or hypothetical construct? Psychol Rev. 1951;
58:235–47.
60. Tinbergen N. The study of instinct. New York: Oxford University Press; 1951. 61. Miller NE. Studies of fear as an acquirable drive fear as motivation and fear-
reduction as reinforcement in the learning of new responses. J Exp Psychol.
1948;38:89–101.
62. Mowrer OH. Anxiety-reduction and learning. J Exp Psychol. 1940;27:497–516. 63. Mowrer OH. A stimulus-response analysis of anxiety and its role as a reinforcing
agent. Psychol Rev. 1939;46:553–65.
64. Mowrer OH, Lamoreaux RR. Fear as an intervening variable in avoidance con-
ditioning. J Comp Psychol. 1946;39:29–50.
65. Rescorla RA, Solomon RL. Two-process learning theory: relationships between
Pavlovian conditioning and instrumental learning. Psychol Rev. 1967;74:151–82. 66. Solomon RL, Wynne LC. Traumatic avoidance learning: the principles of anxiety
conservation and partial irreversibility. Psychol Rev. 1954;61:353–85.
67. LeDoux JE, Moscarello J, Sears R, Campese V. The birth, death and resurrection of avoidance: a reconceptualization of a troubled paradigm. Mol Psychiatry.
2017;22:24–36.
68. Mineka S. The role of fear in theories of avoidance learning, flooding, and
extinction. Psychol Bull. 1979;86:985–1010.
69. McAllister WR, McAllister DE. Behavioral measurement of conditioned fear.
Aversive conditioning and learning, Elsevier; 1971. p. 105–79.
70. Bolles RC. Theory of motivation. Harper and Row, New York; 1967.
71. Mowrer OH. Learning theory and behavior. Wiley; 1960.
72. Mowrer OH. Learning theory and the neurotic paradox. Am J Orthopsychiatry.
1948;18:571–610.
73. Dollard J, Miller NE. Personality and psychotherapy; an analysis in terms of
learning, thinking, and culture. Vol. 488. New York: McGraw-Hill; 1950.
74. Beck AT. Cognitive therapy: nature and relation to behavior therapy. Behav Ther.
1970;1:184–200.
75. Levis DJ. The case for a return to a two-factor theory of avoidance: the failure of
non-fear interpretations. In: Klein SB, Mowrer RR, editors. Contemporary learning theories: pavlovian conditioning and the status of traditional learning theory. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Assn.; 1989.
76. Beckers T, Craske MG. Avoidance and decision making in anxiety: an intro- duction to the special issue. Behav Res Ther. 2017;96:1.
77. Dykman RA, Ackerman PT, Newton JE. Posttraumatic stress disorder: a sensiti- zation reaction. Integr Physiol Behav Sci. 1997;32:9–18.
78. Ekman P. Universals and cultural differences in facial expressions of emotions. In: Cole J, editor. Nebraska symposium on motivation, vol. 19, University of Nebraska Press; 1972. p. 207–83.
79. Izard CE. The face of emotion New York. New York: Appleton-Century-Crofts; 1971.
80. Panksepp J. Toward a general psychobiological theory of emotions. Behav Brain
1964;10:561–71. Sci. 1982;5:407–22.
81. Panksepp J. Affective neuroscience. Oxford University Press; 1998.
82. Fanselow MS, Pennington ZT. A return to the psychiatric dark ages with a two-
system framework for fear. Behav Res Ther. 2018;100:24–29.
83. Ressler KJ. Translating across circuits and genetics toward progress in fear- and
anxiety-related disorders. Am J Psychiatry. 2020;177:214–22.
84. Lang PJ, Lazovik AD, Reynolds DJ. Desensitization, suggestibility, and pseu-
dotherapy. J Abnorm Psychol. 1965;70:395–402.
85. Lacey JI. Psychophysiological approaches to the evaluation of psychotherapeutic
process and outcome. In: Rubinstein EA, Parloff MB. editors. Research in psy-
chotherapy. Washington, DC: American Psychological Association; 1959. p. 160–208.
86. Lang PJ. The mechanics of desensitization and the laboratory study of human fear. In: Franks C, editor. Assessment and status of the behavior therapies, New
York: McGraw-Hill; 1969. p. 160–91.
87. Lang PJ, Miller GA, Levin DN. Anxiety and fear. In: Davidson RJ, Schwartz GE,
Shapiro D, editors. Consciousness and self-regulation: Vol. 3: Advances in
research and theory. Boston, MA: Springer US; 1983. p. 123–51.
88. Miller GA, Kozak MJ. Three-systems assessment and the construct of emotion. In: Birbaumer N, Öhman A, editors. The structure of emotion: physiological, cog-
nitive and clinical aspects. Hogrefe & Huber Kirkland, WA; 1993. p. 31–47.
89. Rachman S. The passing of the two-stage theory of fear and avoidance: fresh
possibilities. Behav Res Ther. 1976;14:125–31.
90. Rachman S, Hodgson RI. Synchrony and desynchrony in fear and avoidance.
Behav Res Ther. 1974;12:311–8.
91. Borkovec TD. Physiological and cognitive processes in the regulation of anxiety.
In: Schwartz GE, Shapiro D, editors. Consciousness and self-regulation: advances
in research. Vol. 1. Boston, MA: Springer US; 1976. p. 261–312.
92. Hugdahl K. The three-systems-model of fear and emotion—a critical examina-
tion. Behav Res Ther. 1981;19:75–83.
93. Zinbarg RE. Concordance and synchrony in measures of anxiety and panic recon-
sidered: a hierarchical model of anxiety and panic. Behav Ther. 1998;29:301–23.
94. Foa EB, Kozak MJ. Emotional processing of fear: exposure to corrective infor-
mation. Psychol Bull. 1986;99:20–35.
95. Romer AS. The vertebrate as a dual animal—somatic and visceral. In: Dobzhansky
T, Hecht MK, Steere WC, editors. Evolutionary biology, Springer; 1972. p. 121–56.
96. LeDoux JE, Daw ND. Surviving threats: neural circuit and computational implications of a new taxonomy of defensive behaviour. Nat Rev Neurosci.
2018;19:269–82.
97. Hollenstein T, Lanteigne D. Models and methods of emotional concordance. Biol
Psychol. 2014;98:1–5.
98. Davidson RJ, Schwartz GE. The psychobiology of relaxation and related states: a
multi-process theory. In: Mostoesky DI, editor. Behavior control and modification
of physiological activity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1976. p. 399–442.
99. Lang PJ. Physiological assessment of anxiety and fear. In: Cone JD, Hawkins RP, editors. Behavioral assessment: new directions in clinical psychology. New York:
Brunner-Mazel; 1977. p. 178–95.
100. Michelson L. The role of individual differences, response profiles, and treatment
consonance in anxiety disorders. J Behav Assess. 1984;6:349–67.
101. Ost LG, Jerremalm A, Johansson J. Individual response patterns and the effects of different behavioral methods in the treatment of social phobia. Behav Res
Ther. 1981;19:1–16.
102. Ost LG, Johansson J, Jerremalm A. Individual response patterns and the effects
of different behavioral methods in the treatment of claustrophobia. Behav Res
Ther. 1982;20:445–60.
103. Gerrans P, Scherer K. Wired for despair the neurochemistry of emotion and the
phenomenology of depression. J Conscious Stud. 2013;20:254–68.
104. Steenen SA, van Wijk AJ, van der Heijden GJMG, van Westrhenen R, de Lange J, de Jongh A. Propranolol for the treatment of anxiety disorders: systematic
review and meta-analysis. J Psychopharmacol. 2016;30:128–39.
105. Lang PJ, Lazovik AD. Experimental desensitization of phobia. J Abnorm Soc
Psychol. 1963;66:519–25.
106. Gray JA. The psychology of fear and stress. London: Weidenfeld & Nicolson; 1971.
107. LeDoux JE. Rethinking the emotional brain. Neuron 2012;73:653–76.
108. Hilton SM, Zbrozyna AW. Amygdaloid region for defence reactions and its
efferent pathway to the brain stem. J Physiol. 1963;165:160–73.
109. Cohen DH, Obrist PA. Interactions between behavior and the cardiovascular
system. Circ Res. 1975;37:693–706.
110. Balleine BW, Dickinson A. Goal-directed instrumental action: contingency and
incentive learning and their cortical substrates. Neuropharmacology 1998;37:407–19.
111. Cronbach LJ, Meehl PE. Construct validity in psychological tests. Psychol Bull.
1955;52:281–302.
112. Barrett LF. Variety is the spice of life: a psychological construction approach to
understanding variability in emotion. Cogn Emot. 2009;23:1284–306.
113. Friedman BH, Stephens CL, Thayer JF. Redundancy analysis of autonomic and
self-reported, responses to induced emotions. Biol Psychol. 2014;98:19–28.
114. Schaffner KF. A comparison of two neurobiological models of fear and anxiety: a 'construct validity' application? Perspect Psychol Sci. 2020;2020. https://doi.org/ 10.1177/1745691620920860.
115. Lonsdorf TB, Merz CJ, Fullana MA. Fear extinction retention: is it what we think it is? Biol Psychiatry. 2019;85:1074–82.
116. LeDoux JE, Brown R. A higher-order theory of emotional consciousness. Proc Natl Acad Sci USA. 2017;114:E2016–E2025.
117. LeDoux JE. What emotions might be like in other animals. Curr Biol. 2021;31: R824–R829.
118. LeDoux JE. Thoughtful feelings. Curr Biol. 2020;30:R619–R623.
119. Schachter S, Singer JE. Cognitive, social, and physiological determinants of
emotional state. Psychol Rev. 1962;69:379–99.
120. Ortony A, Clore GL. Emotions, moods, and conscious awareness; comment on
johnson-laird and oatley's 'the language of emotions: an analysis of a semantic
field'. Cognition Emot. 1989;3:125–37.
121. Barrett LF, Russell JA, editors. The psychological construction of emotions.
Guilford Press; 2015.
122. Rosenthal D. Consciousness and mind. Oxford University Press; 2005.
123. LeDoux JE. How does the non-conscious become conscious? Curr Biol. 2020;30:
R196–R199.
124. LeDoux JE, Brown R, Pine D, Hofmann SG. Know thyself: well-being and sub-
jective experience. Cerebrum. 2018;2018.
125. Damasio AR. The somatic marker hypothesis and the possible functions of the
prefrontal cortex. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1996;351:1413–20.
126. Danziger K. The history of introspection reconsidered. J Hist Behav Sci.
1980;16:241–62.
127. Johansson P, Hall L, Sikström S, Olsson A. Failure to detect mismatches between
intention and outcome in a simple decision task. Science 2005;310:116–9. 128. Nisbett RE, Wilson TD. Telling more than we can know: verbal reports on mental
processes. Psychol Rev. 1977;84:231–59.
129. Jerolmack C, Khan S. Talk is cheap. Sociol Methods Res. 2014;43:178–209.
130. Carruthers P. The opacity of mind: an integrative theory of self-knowledge.
Oxford University Press; 2011.
131. Robinson MD, Clore GL. Belief and feeling: evidence for an accessibility model of
emotional self-report. Psychol Bull. 2002;128:934–60.
132. Walentynowicz M, Schneider S, Stone AA. The effects of time frames on self-
report. PLoS ONE. 2018;13:e0201655.
133. Chirimuuta M. Psychophysical methods and the evasion of introspection. Philos
Sci. 2014;81:914–26.
134. Quigley KS, Lindquist KA, Barrett LF. Inducing and measuring emotion and
affect: tips, tricks, and secrets. In: Reis HT, Judd CM, editors. Handbook of research methods in social and personality psychology. Cambridge University Press; 2014. p. 220–52.
135. Borsboom D, Mellenbergh GJ. The concept of validity. Psychol Rev. 2004;111: 1061–71.
136. Cohen JA, Mannarino AP, Deblinger E. Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents, 2nd ed. Guilford Publications; 2016.
137. Schneider KJ, Krug OT. Existential-humanistic therapy. American Psychological Association Washington, DC; 2010.
138. Hofmann SG, Gómez AF. Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. Psychiatric Clin. 2017;40:739–49.
139. Zoellner LA, Foa EB. Applying Research Domain Criteria (RDoC) to the study of fear and anxiety: a critical comment. Psychophysiology. 2016;53:332–5.
140. Constantinou E, Purves KL, McGregor T, Lester KJ, Barry TJ, Treanor M, et al. Measuring fear: association among different measures of fear learning. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2021;70:101618.
141. Nord CL, Barrett LF, Lindquist KA, Ma Y, Marwood L, Satpute AB, et al. Neural effects of antidepressant medication and psychological treatments: a quanti- tative synthesis across three meta-analyses. Br J Psychiatry. 2021;219:1–5.
142. Taschereau-Dumouchel V, Kawato M, Lau H. Multivoxel pattern analysis reveals dissociations between subjective fear and its physiological correlates. Mol Psychiatry. 2020;25:2342–54.
143. FeldmanHall O, Glimcher P, Baker AL, PROSPEC NYU Collaboration, Phelps EA. The functional roles of the amygdala and prefrontal cortex in processing uncertainty. J Cogn Neurosci. 2019;31:1742–54.
144. Hofmann SG, Curtiss JE, Hayes SC. Beyond linear mediation: toward a dynamic network approach to study treatment processes. Clin Psychol Rev. 2020;76:101824. 145. LeDoux JE, Lau H. A new vista in psychiatric treatment: using individualized func-
tional connectivity to track symptoms. Proc Natl Acad Sci USA. 2020;117:4450–2. 146. Sylvester CM, Yu Q, Srivastava AB, Marek S, Zheng A, Alexopoulos D, et al. Individual-specific functional connectivity of the amygdala: a substrate for
precision psychiatry. Proc Natl Acad Sci USA. 2020;117:3808–18.
147. Allen JG, Haccoun DM. Sex differences in emotionality: a multidimensional
Molecular Psychiatry (2022) 27:1322 – 1330
V. Taschereau-Dumouchel et al.
approach. Hum Relat. 1976;29:711–22.
1329
148. Gard MG, Kring AM. Sex differences in the time course of emotion. Emotion 2007;7:429–37.
149. Zhou F, Zhao W, Qi Z, Geng Y, Yao S, Kendrick KM, et al. A distributed fMRI-based signature for the subjective experience of fear. Nat Commun. 2021;12:6643.
150. Ekman P. An argument for basic emotions. Cognition Emot. 1992;6:169–200.
151. Scherer KR. The dynamic architecture of emotion: evidence for the component
process model. Cognition Emot. 2009;23:1307–51.
152. Barrett LF. How emotions are made: the secret life of the brain. Houghton Mifflin
Harcourt; 2017.
153. Mashour GA, Roelfsema P, Changeux J-P, Dehaene S. Conscious processing and
the global neuronal workspace hypothesis. Neuron 2020;105:776–98.
154. Apkarian AV. Definitions of nociception, pain, and chronic pain with implications
regarding science and society. Neurosci Lett. 2019;702:1–2.
155. Krueger RF, Hobbs KA. An overview of the DSM-5 alternative model of per-
sonality disorders. Psychopathology 2020;53:126–32.
156. Michel M, Lau H. On the dangers of conflating strong and weak versions of a
theory of consciousness. Philos. Mind Sci. 2020;1.
157. Dretske F. Naturalizing the mind. Cambridge, MA: Bradford; 1995.
158. Lamme VAF. How neuroscience will change our view on consciousness. Cogn
Neurosci. 2010;1:204–20.
159. Tye M. Consciousness, color, and content (representation and mind). MIT Press;
2000.
160. Block N. Empirical science meets higher order views of consciousness: reply to
Hakwan Lau and Richard Brown. Blockheads! Essays on Ned block's philosophy
of mind and consciousness. MIT Press Cambridge, MA; 2019. p. 199–213.
161. Panksepp J. What is an emotional feeling? Lessons about affective origins from
cross-species neuroscience. Motiv Emot. 2012;36:4–15.
162. Lau H, Rosenthal D. Empirical support for higher-order theories of conscious
awareness. Trends Cogn Sci. 2011;15:365–73.
163. Brown R, Lau H, LeDoux JE. Understanding the higher-order approach to con-
sciousness. Trends Cogn Sci. 2019;23:754–68.
164. Fleming SM, Daw ND. Self-evaluation of decision-making: a general Bayesian
framework for metacognitive computation. Psychol Rev. 2017;124:91–114.
AUTHOR CONTRIBUTIONS
V.T-D, M.M., H.L., S.G.H., and J.E.L. wrote and edited the manuscript.
FUNDING INFORMATION
SGH receives financial support from the Alexander von Humboldt Foundation and the James S. McDonnell Foundation 21st Century Science Initiative in
Understanding Human Cognition—Special Initiative. HL received financial support from the US National Institute of Mental Health (R61MH113772) and The Templeton World Charity Foundation (RA537-01). JELD receives financial support from the National Institute of Drug Abuse, The Templeton World Charity Foundation, New York University, and private donors. VT-D received the financial support from the Canadian Institute of Health Research (CIHR).
COMPETING INTERESTS
SGH receives compensation for his work as editor from SpringerNature and the Association for Psychological Science, and as an advisor from the Palo Alto Health Sciences Otsuka Pharmaceuticals, and for his work as a Subject Matter Expert from John Wiley & Sons, Inc. and SilverCloud Health, Inc. He also receives royalties and payments for his editorial work from various publishers. JELD receives royalties from his books. The remaining authors declare no competing interests.
Molecular Psychiatry (2022) 27:1322 – 1330
V. Taschereau-Dumouchel et al.
1327
2. LeDoux JE. The emotional brain: the mysterious underpinnings of emotional life. Simon and Schuster; 1996.
3. LeDoux JE. Anxious: using the brain to understand and treat fear and anxiety. Penguin; 2015.
4. Morrison FG, Ressler KJ. From the neurobiology of extinction to improved clinical treatments. Depress Anxiety. 2014;31:279–90.
5. Perusini JN, Fanselow MS. Neurobehavioral perspectives on the distinction between fear and anxiety. Learn Mem. 2015;22:417–25.
6. File SE. Factors controlling measures of anxiety and responses to novelty in the mouse. Behav Brain Res. 2001;125:151–7.
7. Lang PJ, Davis M. Emotion, motivation, and the brain: reflex foundations in animal and human research. Prog Brain Res. 2006;156:3–29.
8. Gray JA, McNaughton N. The psychology of anxiety and enquiry in to the func- tions of the septo hippocampus system. New York: Oxford University Press; 2000.
9. Hartley CA, Phelps EA. Changing fear: the neurocircuitry of emotion regulation.
Neuropsychopharmacology. 2010;35:136–46.
10. Büchel C, Dolan RJ. Classical fear conditioning in functional neuroimaging. Curr
Opin Neurobiol. 2000;10:219–23.
11. Grupe DW, Nitschke JB. Uncertainty and anticipation in anxiety: an integrated
neurobiological and psychological perspective. Nat Rev Neurosci. 2013;14:
488–501.
12. Krystal JH, Deutsch DN, Charney DS. The biological basis of panic disorder. J Clin
Psychiatry 1996;57:23–31. Discussion 32–33
13. Maren S, Phan KL, Liberzon I. The contextual brain: implications for fear con-
ditioning, extinction and psychopathology. Nat Rev Neurosci. 2013;14:417–28.
14. Craske MG, Kircanski K, Zelikowsky M, Mystkowski J, Chowdhury N, Baker A. Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. Behav Res Ther.
2008;46:5–27.
15. Ehlers A, Bisson J, Clark DM, Creamer M, Pilling S, Richards D, et al. Do all
psychological treatments really work the same in posttraumatic stress disorder?
Clin Psychol Rev. 2010;30:269–76.
16. Barlow DH, Raffa SD, Cohen EM. Psychosocial treatments for panic disorders,
phobias, and generalized anxiety disorder. In: Nathan PE, Gorman JM, editors. A
guide to treatments that work, Oxford University Press; 2002.
17. Hofmann SG, Asmundson GJG, Beck AT. The science of cognitive therapy. Behav
Ther. 2013;44:199–212.
18. Milad MR, Quirk GJ. Fear extinction as a model for translational neuroscience:
ten years of progress. Annu Rev Psychol. 2012;63:129–51.
19. Mathew SJ, Coplan JD, Gorman JM. Neurobiological mechanisms of social
anxiety disorder. Am J Psychiatry. 2001;158:1558–67.
20. Griebel G, Holmes A. 50 years of hurdles and hope in anxiolytic drug discovery.
Nat Rev Drug Discov. 2013;12:667–87.
21. LeDoux JE, Pine DS. Using neuroscience to help understand fear and anxiety: a
two-system framework. Am J Psychiatry. 2016;173:1083–93.
22. LeDoux JE, Hofmann SG. The subjective experience of emotion: a fearful view.
Curr Opin Behav Sci. 2018;19:67–72.
23. Hyman SE. Revolution stalled. Sci Transl Med. 2012;4:155cm11.
24. Miller G. Is pharma running out of brainy ideas? Science 2010;329:502–4.
25. Darwin C. The expression of the emotions in man and animals. London: John
Murray; 1872.
26. James W. What is an emotion? Mind 1884;9:188–205.
27. Cannon WB. Organization for physiological homeostasis. Physiol Rev.
1929;9:399–431.
28. Keller FS. The definition of psychology. 2nd ed. Appleton-Century-Crofts; 1973.
29. Boring EG. A history of introspection. Psychol Bull. 1953;50:169–89.
30. Watson JB. Psychology as the behaviorist views it. Psychol Rev. 1913;20:158–77.
31. Stellar E. The physiology of motivation. Psychol Rev. 1954;61:5–22.
32. Olds J. Pleasure centers in the brain. Sci Am. 1956;195:105–17.
33. Weiskrantz L. Behavioral changes associated with ablation of the amygdaloid
complex in monkeys. J Comp Physiol Psychol. 1956;49:381–91.
34. Goddard GV. Functions of the amygdala. Psychol Bull. 1964;62:89–109.
35. Miller GA, Galanter E, Pribram KH. Plans and the structure of behavior. Martino
Fine Books; 2013.
36. Wolpe J. Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford, CA: Stanford Uni-
versity Press; 1958.
37. Bandura A. Psychotherapy as a learning process. Psychol Bull. 1961;58:143–59.
38. Braslow JT, Marder SR. History of psychopharmacology. Annu Rev Clin Psychol.
2019;15:25–50.
39. Valenstein E. Blaming the brain. New York: Free Press; 1999.
40. Wittenborn JR. The clinical psychopharmacology of anxiety. Springfield: C.C.
Thomas; 1966.
41. Ellis A. Rational psychotherapy and individual psychology. J Individ Psychol.
1957;13:38–44.
42. Beck AT. Thinking and depression. II. Theory and therapy. Arch Gen Psychiatry.
43. Insel T, Cuthbert B, Garvey M, Heinssen R, Pine DS, Quinn K, et al. Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for research on mental disorders. Am J Psychiatry. 2010;167:748–51.
44. Kozak MJ, Cuthbert BN. The NIMH Research Domain Criteria Initiative: back- ground, issues, and pragmatics. Psychophysiology 2016;53:286–97.
45. Lieberman MD. Boo! The consciousness problem in emotion. Cogn Emot. 2019;33:24–30.
46. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013.
47. Moncrieff J. The myth of the chemical cure: a critique of psychiatric drug treatment. Springer; 2016.
48. Harrington A. Mind fixers: psychiatry's troubled search for the biology of mental illness. W. W. Norton & Company; 2019.
49. Ivanov I, Schwartz JM. Why psychotropic drugs don't cure mental illness—but should they? Front Psychiatry. 2021;12.
50. Greenberg G. The psychiatric drug crisis. New Yorker. 2013;3.
51. Hyman SE. Psychiatric drug development: diagnosing a crisis. Cerebrum
2013;2013:5.
52. Braslow JT, Brekke JS, Levenson J. Psychiatry's myopia-reclaiming the social, cul-
tural, and psychological in the psychiatric gaze. JAMA Psychiatry. 2020;78:349. 53. Michel M. Consciousness science underdetermined: a short history of endless
debates. Ergo. 2019;6.
54. LeDoux JE. Coming to terms with fear. Proc Natl Acad Sci USA. 2014;111:2871–8. 55. LeDoux JE. Semantics, surplus meaning, and the science of fear. Trends Cogn
Sci. 2017;21:303–6.
56. Tolman EC. Purposive behavior in animals and man. New York: Century; 1932. 57. Brown JS, Farber IE. Emotions conceptualized as intervening variables—with
suggestions toward a theory of frustration. Psychol Bull. 1951;48:465–95.
58. Kozak MJ, Miller GA. Hypothetical constructs versus intervening variables: a re- appraisal of the three-systems model of anxiety assessment. Behav Assess.
1982;4:347–58.
59. Marx MH. Intervening variable or hypothetical construct? Psychol Rev. 1951;
58:235–47.
60. Tinbergen N. The study of instinct. New York: Oxford University Press; 1951. 61. Miller NE. Studies of fear as an acquirable drive fear as motivation and fear-
reduction as reinforcement in the learning of new responses. J Exp Psychol.
1948;38:89–101.
62. Mowrer OH. Anxiety-reduction and learning. J Exp Psychol. 1940;27:497–516. 63. Mowrer OH. A stimulus-response analysis of anxiety and its role as a reinforcing
agent. Psychol Rev. 1939;46:553–65.
64. Mowrer OH, Lamoreaux RR. Fear as an intervening variable in avoidance con-
ditioning. J Comp Psychol. 1946;39:29–50.
65. Rescorla RA, Solomon RL. Two-process learning theory: relationships between
Pavlovian conditioning and instrumental learning. Psychol Rev. 1967;74:151–82. 66. Solomon RL, Wynne LC. Traumatic avoidance learning: the principles of anxiety
conservation and partial irreversibility. Psychol Rev. 1954;61:353–85.
67. LeDoux JE, Moscarello J, Sears R, Campese V. The birth, death and resurrection of avoidance: a reconceptualization of a troubled paradigm. Mol Psychiatry.
2017;22:24–36.
68. Mineka S. The role of fear in theories of avoidance learning, flooding, and
extinction. Psychol Bull. 1979;86:985–1010.
69. McAllister WR, McAllister DE. Behavioral measurement of conditioned fear.
Aversive conditioning and learning, Elsevier; 1971. p. 105–79.
70. Bolles RC. Theory of motivation. Harper and Row, New York; 1967.
71. Mowrer OH. Learning theory and behavior. Wiley; 1960.
72. Mowrer OH. Learning theory and the neurotic paradox. Am J Orthopsychiatry.
1948;18:571–610.
73. Dollard J, Miller NE. Personality and psychotherapy; an analysis in terms of
learning, thinking, and culture. Vol. 488. New York: McGraw-Hill; 1950.
74. Beck AT. Cognitive therapy: nature and relation to behavior therapy. Behav Ther.
1970;1:184–200.
75. Levis DJ. The case for a return to a two-factor theory of avoidance: the failure of
non-fear interpretations. In: Klein SB, Mowrer RR, editors. Contemporary learning theories: pavlovian conditioning and the status of traditional learning theory. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Assn.; 1989.
76. Beckers T, Craske MG. Avoidance and decision making in anxiety: an intro- duction to the special issue. Behav Res Ther. 2017;96:1.
77. Dykman RA, Ackerman PT, Newton JE. Posttraumatic stress disorder: a sensiti- zation reaction. Integr Physiol Behav Sci. 1997;32:9–18.
78. Ekman P. Universals and cultural differences in facial expressions of emotions. In: Cole J, editor. Nebraska symposium on motivation, vol. 19, University of Nebraska Press; 1972. p. 207–83.
79. Izard CE. The face of emotion New York. New York: Appleton-Century-Crofts; 1971.
80. Panksepp J. Toward a general psychobiological theory of emotions. Behav Brain
1964;10:561–71. Sci. 1982;5:407–22.
81. Panksepp J. Affective neuroscience. Oxford University Press; 1998.
82. Fanselow MS, Pennington ZT. A return to the psychiatric dark ages with a two-
system framework for fear. Behav Res Ther. 2018;100:24–29.
83. Ressler KJ. Translating across circuits and genetics toward progress in fear- and
anxiety-related disorders. Am J Psychiatry. 2020;177:214–22.
84. Lang PJ, Lazovik AD, Reynolds DJ. Desensitization, suggestibility, and pseu-
dotherapy. J Abnorm Psychol. 1965;70:395–402.
85. Lacey JI. Psychophysiological approaches to the evaluation of psychotherapeutic
process and outcome. In: Rubinstein EA, Parloff MB. editors. Research in psy-
chotherapy. Washington, DC: American Psychological Association; 1959. p. 160–208.
86. Lang PJ. The mechanics of desensitization and the laboratory study of human fear. In: Franks C, editor. Assessment and status of the behavior therapies, New
York: McGraw-Hill; 1969. p. 160–91.
87. Lang PJ, Miller GA, Levin DN. Anxiety and fear. In: Davidson RJ, Schwartz GE,
Shapiro D, editors. Consciousness and self-regulation: Vol. 3: Advances in
research and theory. Boston, MA: Springer US; 1983. p. 123–51.
88. Miller GA, Kozak MJ. Three-systems assessment and the construct of emotion. In: Birbaumer N, Öhman A, editors. The structure of emotion: physiological, cog-
nitive and clinical aspects. Hogrefe & Huber Kirkland, WA; 1993. p. 31–47.
89. Rachman S. The passing of the two-stage theory of fear and avoidance: fresh
possibilities. Behav Res Ther. 1976;14:125–31.
90. Rachman S, Hodgson RI. Synchrony and desynchrony in fear and avoidance.
Behav Res Ther. 1974;12:311–8.
91. Borkovec TD. Physiological and cognitive processes in the regulation of anxiety.
In: Schwartz GE, Shapiro D, editors. Consciousness and self-regulation: advances
in research. Vol. 1. Boston, MA: Springer US; 1976. p. 261–312.
92. Hugdahl K. The three-systems-model of fear and emotion—a critical examina-
tion. Behav Res Ther. 1981;19:75–83.
93. Zinbarg RE. Concordance and synchrony in measures of anxiety and panic recon-
sidered: a hierarchical model of anxiety and panic. Behav Ther. 1998;29:301–23.
94. Foa EB, Kozak MJ. Emotional processing of fear: exposure to corrective infor-
mation. Psychol Bull. 1986;99:20–35.
95. Romer AS. The vertebrate as a dual animal—somatic and visceral. In: Dobzhansky
T, Hecht MK, Steere WC, editors. Evolutionary biology, Springer; 1972. p. 121–56.
96. LeDoux JE, Daw ND. Surviving threats: neural circuit and computational implications of a new taxonomy of defensive behaviour. Nat Rev Neurosci.
2018;19:269–82.
97. Hollenstein T, Lanteigne D. Models and methods of emotional concordance. Biol
Psychol. 2014;98:1–5.
98. Davidson RJ, Schwartz GE. The psychobiology of relaxation and related states: a
multi-process theory. In: Mostoesky DI, editor. Behavior control and modification
of physiological activity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1976. p. 399–442.
99. Lang PJ. Physiological assessment of anxiety and fear. In: Cone JD, Hawkins RP, editors. Behavioral assessment: new directions in clinical psychology. New York:
Brunner-Mazel; 1977. p. 178–95.
100. Michelson L. The role of individual differences, response profiles, and treatment
consonance in anxiety disorders. J Behav Assess. 1984;6:349–67.
101. Ost LG, Jerremalm A, Johansson J. Individual response patterns and the effects of different behavioral methods in the treatment of social phobia. Behav Res
Ther. 1981;19:1–16.
102. Ost LG, Johansson J, Jerremalm A. Individual response patterns and the effects
of different behavioral methods in the treatment of claustrophobia. Behav Res
Ther. 1982;20:445–60.
103. Gerrans P, Scherer K. Wired for despair the neurochemistry of emotion and the
phenomenology of depression. J Conscious Stud. 2013;20:254–68.
104. Steenen SA, van Wijk AJ, van der Heijden GJMG, van Westrhenen R, de Lange J, de Jongh A. Propranolol for the treatment of anxiety disorders: systematic
review and meta-analysis. J Psychopharmacol. 2016;30:128–39.
105. Lang PJ, Lazovik AD. Experimental desensitization of phobia. J Abnorm Soc
Psychol. 1963;66:519–25.
106. Gray JA. The psychology of fear and stress. London: Weidenfeld & Nicolson; 1971.
107. LeDoux JE. Rethinking the emotional brain. Neuron 2012;73:653–76.
108. Hilton SM, Zbrozyna AW. Amygdaloid region for defence reactions and its
efferent pathway to the brain stem. J Physiol. 1963;165:160–73.
109. Cohen DH, Obrist PA. Interactions between behavior and the cardiovascular
system. Circ Res. 1975;37:693–706.
110. Balleine BW, Dickinson A. Goal-directed instrumental action: contingency and
incentive learning and their cortical substrates. Neuropharmacology 1998;37:407–19.
111. Cronbach LJ, Meehl PE. Construct validity in psychological tests. Psychol Bull.
1955;52:281–302.
112. Barrett LF. Variety is the spice of life: a psychological construction approach to
understanding variability in emotion. Cogn Emot. 2009;23:1284–306.
113. Friedman BH, Stephens CL, Thayer JF. Redundancy analysis of autonomic and
self-reported, responses to induced emotions. Biol Psychol. 2014;98:19–28.
114. Schaffner KF. A comparison of two neurobiological models of fear and anxiety: a 'construct validity' application? Perspect Psychol Sci. 2020;2020. https://doi.org/ 10.1177/1745691620920860.
115. Lonsdorf TB, Merz CJ, Fullana MA. Fear extinction retention: is it what we think it is? Biol Psychiatry. 2019;85:1074–82.
116. LeDoux JE, Brown R. A higher-order theory of emotional consciousness. Proc Natl Acad Sci USA. 2017;114:E2016–E2025.
117. LeDoux JE. What emotions might be like in other animals. Curr Biol. 2021;31: R824–R829.
118. LeDoux JE. Thoughtful feelings. Curr Biol. 2020;30:R619–R623.
119. Schachter S, Singer JE. Cognitive, social, and physiological determinants of
emotional state. Psychol Rev. 1962;69:379–99.
120. Ortony A, Clore GL. Emotions, moods, and conscious awareness; comment on
johnson-laird and oatley's 'the language of emotions: an analysis of a semantic
field'. Cognition Emot. 1989;3:125–37.
121. Barrett LF, Russell JA, editors. The psychological construction of emotions.
Guilford Press; 2015.
122. Rosenthal D. Consciousness and mind. Oxford University Press; 2005.
123. LeDoux JE. How does the non-conscious become conscious? Curr Biol. 2020;30:
R196–R199.
124. LeDoux JE, Brown R, Pine D, Hofmann SG. Know thyself: well-being and sub-
jective experience. Cerebrum. 2018;2018.
125. Damasio AR. The somatic marker hypothesis and the possible functions of the
prefrontal cortex. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1996;351:1413–20.
126. Danziger K. The history of introspection reconsidered. J Hist Behav Sci.
1980;16:241–62.
127. Johansson P, Hall L, Sikström S, Olsson A. Failure to detect mismatches between
intention and outcome in a simple decision task. Science 2005;310:116–9. 128. Nisbett RE, Wilson TD. Telling more than we can know: verbal reports on mental
processes. Psychol Rev. 1977;84:231–59.
129. Jerolmack C, Khan S. Talk is cheap. Sociol Methods Res. 2014;43:178–209.
130. Carruthers P. The opacity of mind: an integrative theory of self-knowledge.
Oxford University Press; 2011.
131. Robinson MD, Clore GL. Belief and feeling: evidence for an accessibility model of
emotional self-report. Psychol Bull. 2002;128:934–60.
132. Walentynowicz M, Schneider S, Stone AA. The effects of time frames on self-
report. PLoS ONE. 2018;13:e0201655.
133. Chirimuuta M. Psychophysical methods and the evasion of introspection. Philos
Sci. 2014;81:914–26.
134. Quigley KS, Lindquist KA, Barrett LF. Inducing and measuring emotion and
affect: tips, tricks, and secrets. In: Reis HT, Judd CM, editors. Handbook of research methods in social and personality psychology. Cambridge University Press; 2014. p. 220–52.
135. Borsboom D, Mellenbergh GJ. The concept of validity. Psychol Rev. 2004;111: 1061–71.
136. Cohen JA, Mannarino AP, Deblinger E. Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents, 2nd ed. Guilford Publications; 2016.
137. Schneider KJ, Krug OT. Existential-humanistic therapy. American Psychological Association Washington, DC; 2010.
138. Hofmann SG, Gómez AF. Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. Psychiatric Clin. 2017;40:739–49.
139. Zoellner LA, Foa EB. Applying Research Domain Criteria (RDoC) to the study of fear and anxiety: a critical comment. Psychophysiology. 2016;53:332–5.
140. Constantinou E, Purves KL, McGregor T, Lester KJ, Barry TJ, Treanor M, et al. Measuring fear: association among different measures of fear learning. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2021;70:101618.
141. Nord CL, Barrett LF, Lindquist KA, Ma Y, Marwood L, Satpute AB, et al. Neural effects of antidepressant medication and psychological treatments: a quanti- tative synthesis across three meta-analyses. Br J Psychiatry. 2021;219:1–5.
142. Taschereau-Dumouchel V, Kawato M, Lau H. Multivoxel pattern analysis reveals dissociations between subjective fear and its physiological correlates. Mol Psychiatry. 2020;25:2342–54.
143. FeldmanHall O, Glimcher P, Baker AL, PROSPEC NYU Collaboration, Phelps EA. The functional roles of the amygdala and prefrontal cortex in processing uncertainty. J Cogn Neurosci. 2019;31:1742–54.
144. Hofmann SG, Curtiss JE, Hayes SC. Beyond linear mediation: toward a dynamic network approach to study treatment processes. Clin Psychol Rev. 2020;76:101824. 145. LeDoux JE, Lau H. A new vista in psychiatric treatment: using individualized func-
tional connectivity to track symptoms. Proc Natl Acad Sci USA. 2020;117:4450–2. 146. Sylvester CM, Yu Q, Srivastava AB, Marek S, Zheng A, Alexopoulos D, et al. Individual-specific functional connectivity of the amygdala: a substrate for
precision psychiatry. Proc Natl Acad Sci USA. 2020;117:3808–18.
147. Allen JG, Haccoun DM. Sex differences in emotionality: a multidimensional
Molecular Psychiatry (2022) 27:1322 – 1330
V. Taschereau-Dumouchel et al.
approach. Hum Relat. 1976;29:711–22.
1329
148. Gard MG, Kring AM. Sex differences in the time course of emotion. Emotion 2007;7:429–37.
149. Zhou F, Zhao W, Qi Z, Geng Y, Yao S, Kendrick KM, et al. A distributed fMRI-based signature for the subjective experience of fear. Nat Commun. 2021;12:6643.
150. Ekman P. An argument for basic emotions. Cognition Emot. 1992;6:169–200.
151. Scherer KR. The dynamic architecture of emotion: evidence for the component
process model. Cognition Emot. 2009;23:1307–51.
152. Barrett LF. How emotions are made: the secret life of the brain. Houghton Mifflin
Harcourt; 2017.
153. Mashour GA, Roelfsema P, Changeux J-P, Dehaene S. Conscious processing and
the global neuronal workspace hypothesis. Neuron 2020;105:776–98.
154. Apkarian AV. Definitions of nociception, pain, and chronic pain with implications
regarding science and society. Neurosci Lett. 2019;702:1–2.
155. Krueger RF, Hobbs KA. An overview of the DSM-5 alternative model of per-
sonality disorders. Psychopathology 2020;53:126–32.
156. Michel M, Lau H. On the dangers of conflating strong and weak versions of a
theory of consciousness. Philos. Mind Sci. 2020;1.
157. Dretske F. Naturalizing the mind. Cambridge, MA: Bradford; 1995.
158. Lamme VAF. How neuroscience will change our view on consciousness. Cogn
Neurosci. 2010;1:204–20.
159. Tye M. Consciousness, color, and content (representation and mind). MIT Press;
2000.
160. Block N. Empirical science meets higher order views of consciousness: reply to
Hakwan Lau and Richard Brown. Blockheads! Essays on Ned block's philosophy
of mind and consciousness. MIT Press Cambridge, MA; 2019. p. 199–213.
161. Panksepp J. What is an emotional feeling? Lessons about affective origins from
cross-species neuroscience. Motiv Emot. 2012;36:4–15.
162. Lau H, Rosenthal D. Empirical support for higher-order theories of conscious
awareness. Trends Cogn Sci. 2011;15:365–73.
163. Brown R, Lau H, LeDoux JE. Understanding the higher-order approach to con-
sciousness. Trends Cogn Sci. 2019;23:754–68.
164. Fleming SM, Daw ND. Self-evaluation of decision-making: a general Bayesian
framework for metacognitive computation. Psychol Rev. 2017;124:91–114.
AUTHOR CONTRIBUTIONS
V.T-D, M.M., H.L., S.G.H., and J.E.L. wrote and edited the manuscript.
FUNDING INFORMATION
SGH receives financial support from the Alexander von Humboldt Foundation and the James S. McDonnell Foundation 21st Century Science Initiative in
Understanding Human Cognition—Special Initiative. HL received financial support from the US National Institute of Mental Health (R61MH113772) and The Templeton World Charity Foundation (RA537-01). JELD receives financial support from the National Institute of Drug Abuse, The Templeton World Charity Foundation, New York University, and private donors. VT-D received the financial support from the Canadian Institute of Health Research (CIHR).
COMPETING INTERESTS
SGH receives compensation for his work as editor from SpringerNature and the Association for Psychological Science, and as an advisor from the Palo Alto Health Sciences Otsuka Pharmaceuticals, and for his work as a Subject Matter Expert from John Wiley & Sons, Inc. and SilverCloud Health, Inc. He also receives royalties and payments for his editorial work from various publishers. JELD receives royalties from his books. The remaining authors declare no competing interests.

